Русские мемуары о Серебряном веке
СПИСОК
10 книг и ничего лишнего.
Серебряный век — это период, который выделяется особой насыщенностью в истории русской литературы. Он богат не только текстами, но и яркими событиями, а также личностями, чьи судьбы окутаны множеством мифов.
Из большого количества мемуарных книг о Серебряном веке мы выбрали наиболее интересные, на наш взгляд. В них рассказывается о символистах, акмеистах и футуристах, о тех, кто уехал из страны, и о тех, кто остался в Советской России.
Наш список, безусловно, не является исчерпывающим. Многие вопросы о Серебряном веке до сих пор остаются открытыми. Например, можно ли считать, что эта эпоха закончилась со смертью Блока и Гумилёва в 1921 году? Стоит ли относить к ней художественные направления, появившиеся в советские 1920-е годы, и считать культуру русской эмиграции её продолжением? Насколько достоверны воспоминания, с которыми часто спорили сами их герои? Где проходит граница между «жизнестроительством» и мифом о себе, созданным художником, и начинается его настоящая биография?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы предлагаем прочитать предложенные материалы и решить самостоятельно.
Из большого количества мемуарных книг о Серебряном веке мы выбрали наиболее интересные, на наш взгляд. В них рассказывается о символистах, акмеистах и футуристах, о тех, кто уехал из страны, и о тех, кто остался в Советской России.
Наш список, безусловно, не является исчерпывающим. Многие вопросы о Серебряном веке до сих пор остаются открытыми. Например, можно ли считать, что эта эпоха закончилась со смертью Блока и Гумилёва в 1921 году? Стоит ли относить к ней художественные направления, появившиеся в советские 1920-е годы, и считать культуру русской эмиграции её продолжением? Насколько достоверны воспоминания, с которыми часто спорили сами их герои? Где проходит граница между «жизнестроительством» и мифом о себе, созданным художником, и начинается его настоящая биография?
Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы предлагаем прочитать предложенные материалы и решить самостоятельно.
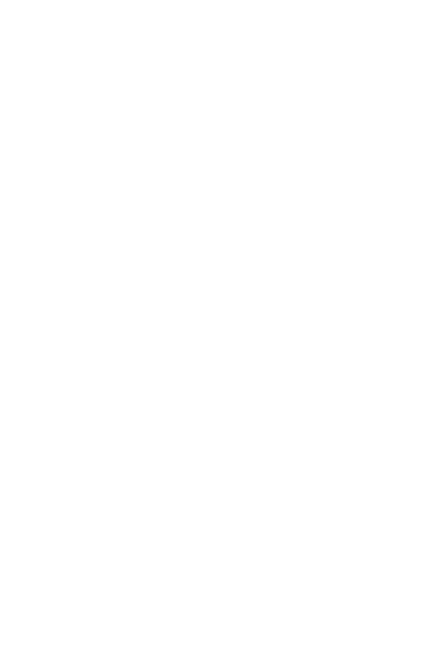
В период расцвета Серебряного века Георгий Иванов, начинающий поэт, экспериментировавший с различными литературными направлениями, не привлекал особого внимания. Однако после революции, оказавшись в эмиграции и создав «Петербургские зимы», Иванов, по мнению Ахматовой, смог отплатить своим обидчикам и бывшим друзьям (Осипу Мандельштаму, Михаилу Кузмину, Всеволоду Шилейко, Игорю Северянину, Борису Пронину и другим).
Воспоминания Георгия Иванова вызывают определённые споры. С одной стороны, из-за множества исторических несоответствий их можно было бы исключить из списка рекомендуемых к прочтению работ о Серебряном веке. С другой стороны, эти мемуары настолько органично вписались в круг чтения как современников автора, так и более поздних читателей, что их всё равно стоит упомянуть.
Их стоит прочитать хотя бы для того, чтобы с полным пониманием и определённой долей драматизма цитировать фразу: «Эти смрадные „мемуары“ Георгия Иванова!» — с интонацией, напоминающей ахматовскую.
Однако, если быть более объективным, в этих мемуарах есть и свои достоинства. Например, автору удалось хорошо передать атмосферу той эпохи.
Воспоминания Георгия Иванова вызывают определённые споры. С одной стороны, из-за множества исторических несоответствий их можно было бы исключить из списка рекомендуемых к прочтению работ о Серебряном веке. С другой стороны, эти мемуары настолько органично вписались в круг чтения как современников автора, так и более поздних читателей, что их всё равно стоит упомянуть.
Их стоит прочитать хотя бы для того, чтобы с полным пониманием и определённой долей драматизма цитировать фразу: «Эти смрадные „мемуары“ Георгия Иванова!» — с интонацией, напоминающей ахматовскую.
Однако, если быть более объективным, в этих мемуарах есть и свои достоинства. Например, автору удалось хорошо передать атмосферу той эпохи.
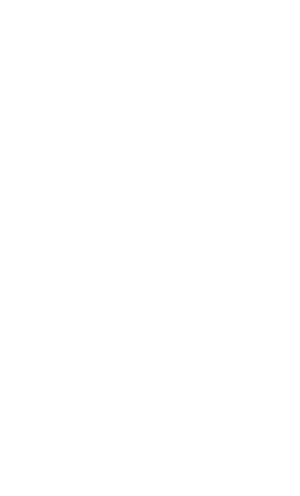
Бенедикт Лившиц — кубофутурист и один из основателей футуристического общества «Гилея». Он был соратником Бурлюков, Хлебникова и Маяковского и стал свидетелем бурного периода формирования русского авангарда.
В своих мемуарах Лившиц описывает выступления футуристов, выставки «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста», а также их противостояние другим художественным течениям. Его повествование создаёт яркую, но в то же время упорядоченную картину того времени. Автор не просто перечисляет анекдоты из жизни футуристов, а представляет серьёзный и остроумный рассказ о динамичном периоде «бури и натиска». Это было время, когда представители русского авангарда боролись за признание новых идей и подходов в искусстве.
В своих мемуарах Лившиц описывает выступления футуристов, выставки «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста», а также их противостояние другим художественным течениям. Его повествование создаёт яркую, но в то же время упорядоченную картину того времени. Автор не просто перечисляет анекдоты из жизни футуристов, а представляет серьёзный и остроумный рассказ о динамичном периоде «бури и натиска». Это было время, когда представители русского авангарда боролись за признание новых идей и подходов в искусстве.
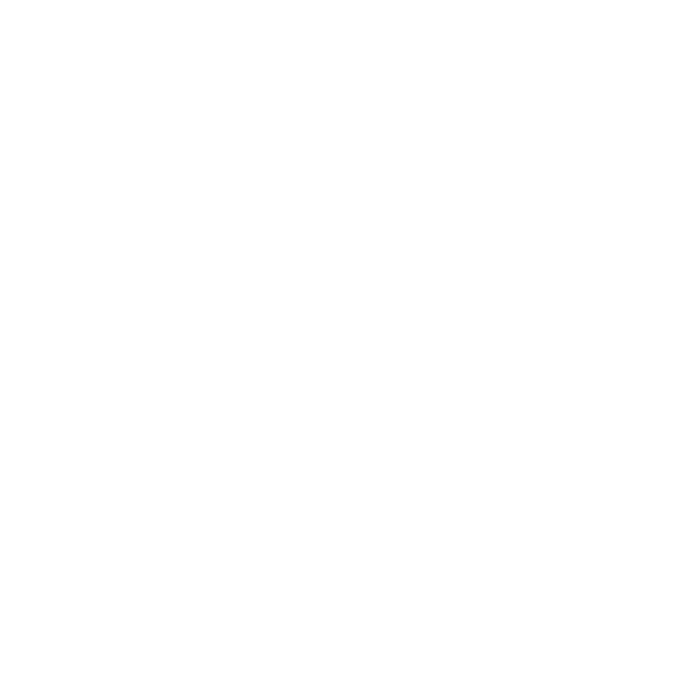
В своей книге «Полутораглазый стрелец» Лившиц относит Бенуа к числу эстетов, которые негативно воспринимали новое авангардное искусство. Однако в «Моих воспоминаниях» Александр Бенуа подробно описывает жизнь представителей другого художественного направления Серебряного века — участников объединения «Мир искусства».
Благодаря усилиям Бенуа, Бакста, Добужинского, Дягилева, Лансере, Рериха, Сомова, Философова в России была создана основа, на которой смогла развиться культура Серебряного века. Журнал «Мир искусства» стал одним из первых модернистских изданий. Выставки мирискусников, хотя и не вызывали таких скандалов, как мероприятия футуристов, всё же были одними из первых, кто заявил о новых формах в искусстве, противопоставляя их академизму и творчеству передвижников. Балетные сезоны Дягилева прославили Россию на весь мир. Бенуа, будучи одним из главных идеологов и организаторов этого художественного объединения, рассказывает о том, как формировалась эта артистическая среда.
Кроме того, «Мои воспоминания» интересны тем, что помимо описания событий эпохи, мемуары художника содержат яркие и живописные описания петербургских пейзажей.
Благодаря усилиям Бенуа, Бакста, Добужинского, Дягилева, Лансере, Рериха, Сомова, Философова в России была создана основа, на которой смогла развиться культура Серебряного века. Журнал «Мир искусства» стал одним из первых модернистских изданий. Выставки мирискусников, хотя и не вызывали таких скандалов, как мероприятия футуристов, всё же были одними из первых, кто заявил о новых формах в искусстве, противопоставляя их академизму и творчеству передвижников. Балетные сезоны Дягилева прославили Россию на весь мир. Бенуа, будучи одним из главных идеологов и организаторов этого художественного объединения, рассказывает о том, как формировалась эта артистическая среда.
Кроме того, «Мои воспоминания» интересны тем, что помимо описания событий эпохи, мемуары художника содержат яркие и живописные описания петербургских пейзажей.
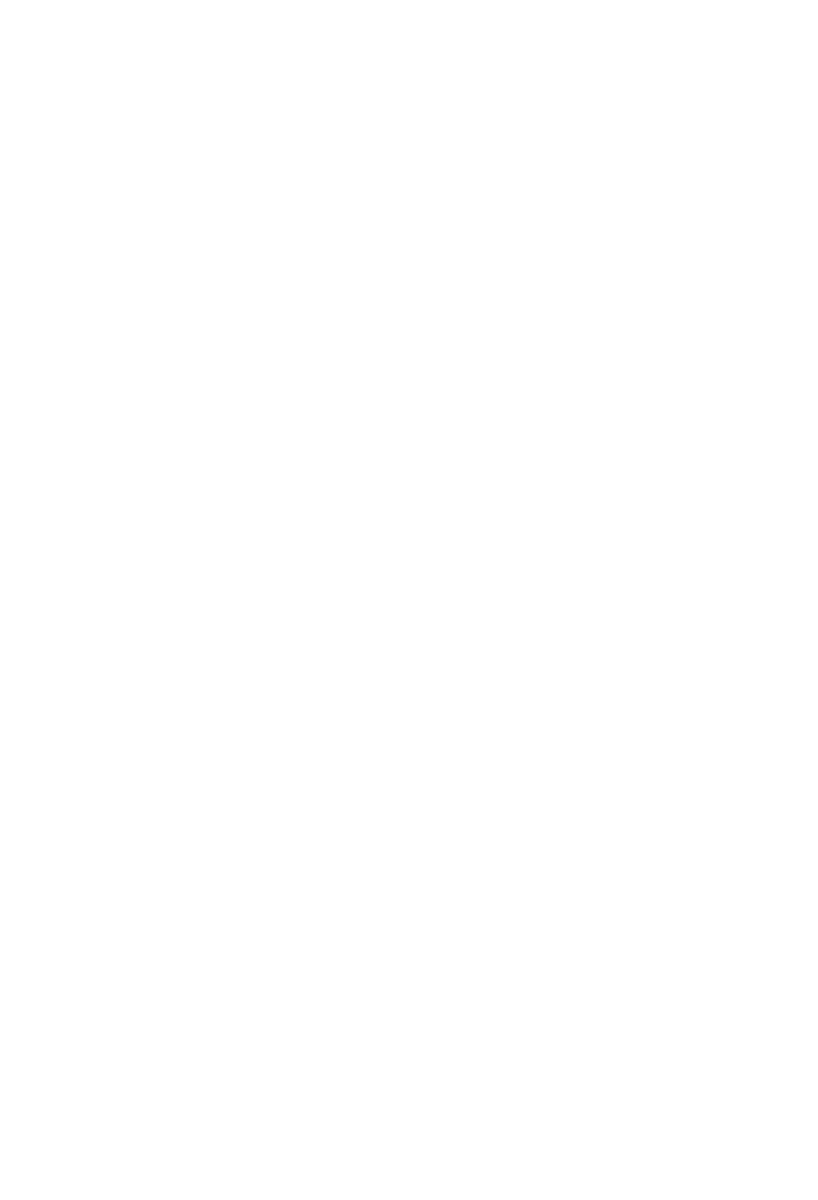
Владимир Пяст (Пестовский) не очень известен среди широкого круга читателей, но в филологических кругах его мемуары высоко ценятся. Пяст — поэт-символист, который много лет читал публичные лекции о современной поэзии. Он был одним из доверенных лиц Блока, часто посещал «Бродячую собаку», состоял в «Академии стиха» и первом «Цехе поэтов», за что был осмеян футуристами.
Пяст описывает множество событий, но особенно ценно то, с какой ответственностью он подходит к роли мемуариста, и то живое, немного наивное негодование, которое он испытывает даже спустя два десятилетия.
«Кстати: когда футуристы выпустили к приезду Маринетти брошюрку, в которой гостеприимно облаяли гостя, своего духовного, так сказать, отца, они мимоходом лягнули и поэтов, примыкавших к «Аполлону», назвавши их, помнится, «Адамами в манишках». Это прозвание было бы метким, если бы тут были перечислены не те имена: а то вот и автор этих строк попал в этот список футуристической листовки, а между тем он не примыкал к «Аполлону», был слабоват насчёт манишек и никогда не претендовал на имя Адама».
В 1997 году Роман Тименчик переиздал книгу «Встречи» и добавил замечательные комментарии, которые помогают ещё лучше понять атмосферу той эпохи.
Пяст описывает множество событий, но особенно ценно то, с какой ответственностью он подходит к роли мемуариста, и то живое, немного наивное негодование, которое он испытывает даже спустя два десятилетия.
«Кстати: когда футуристы выпустили к приезду Маринетти брошюрку, в которой гостеприимно облаяли гостя, своего духовного, так сказать, отца, они мимоходом лягнули и поэтов, примыкавших к «Аполлону», назвавши их, помнится, «Адамами в манишках». Это прозвание было бы метким, если бы тут были перечислены не те имена: а то вот и автор этих строк попал в этот список футуристической листовки, а между тем он не примыкал к «Аполлону», был слабоват насчёт манишек и никогда не претендовал на имя Адама».
В 1997 году Роман Тименчик переиздал книгу «Встречи» и добавил замечательные комментарии, которые помогают ещё лучше понять атмосферу той эпохи.
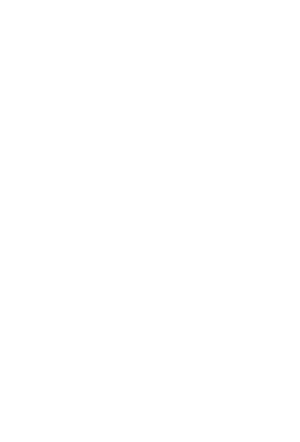
В начале прошлого века каждый представитель культурной элиты должен был познакомиться с мистицизмом, оккультизмом и спиритизмом. О своих опытах в этих областях рассказывает Нина Петровская — поэтесса, переводчица и муза Бальмонта, Белого и Брюсова.
Брюсов изобразил Петровскую в своём мистическом романе, основанном на событиях средневековья, под именем одержимой духом Ренаты. В этом произведении можно узнать и других литературных деятелей того времени, включая самого Брюсова и Белого.
В своих мемуарах Петровская детально описывает спиритические сеансы, на которых ей довелось присутствовать:
«— Перестаньте! Теперь начинается! Тише! — просит кто-то басом.
Резкие сухие стуки снизу в крышку стола…
Сотрясается будка, беспорядочно звенят колокольчики, гудит гитара, точно бьют по ней кулаком.
Валерий Брюсов пытается удержать медиума своей уверенной и властной рукой. Минский растерян: он впервые попал на спиритический сеанс и, очевидно, волнуется. Чтобы скрыть своё волнение, он произносит резко скептическую фразу. И в тот же миг громко и непроизвольно вскрикивает, получив увесистый удар по щеке.
Шум, хаос, у кого-то истерика. Просят на время прекратить.
— Такое было ощущенье, точно ударили меня ногой в шерстяном носке, — наивно и рассерженно рассказывает Минский».
Брюсов изобразил Петровскую в своём мистическом романе, основанном на событиях средневековья, под именем одержимой духом Ренаты. В этом произведении можно узнать и других литературных деятелей того времени, включая самого Брюсова и Белого.
В своих мемуарах Петровская детально описывает спиритические сеансы, на которых ей довелось присутствовать:
«— Перестаньте! Теперь начинается! Тише! — просит кто-то басом.
Резкие сухие стуки снизу в крышку стола…
Сотрясается будка, беспорядочно звенят колокольчики, гудит гитара, точно бьют по ней кулаком.
Валерий Брюсов пытается удержать медиума своей уверенной и властной рукой. Минский растерян: он впервые попал на спиритический сеанс и, очевидно, волнуется. Чтобы скрыть своё волнение, он произносит резко скептическую фразу. И в тот же миг громко и непроизвольно вскрикивает, получив увесистый удар по щеке.
Шум, хаос, у кого-то истерика. Просят на время прекратить.
— Такое было ощущенье, точно ударили меня ногой в шерстяном носке, — наивно и рассерженно рассказывает Минский».
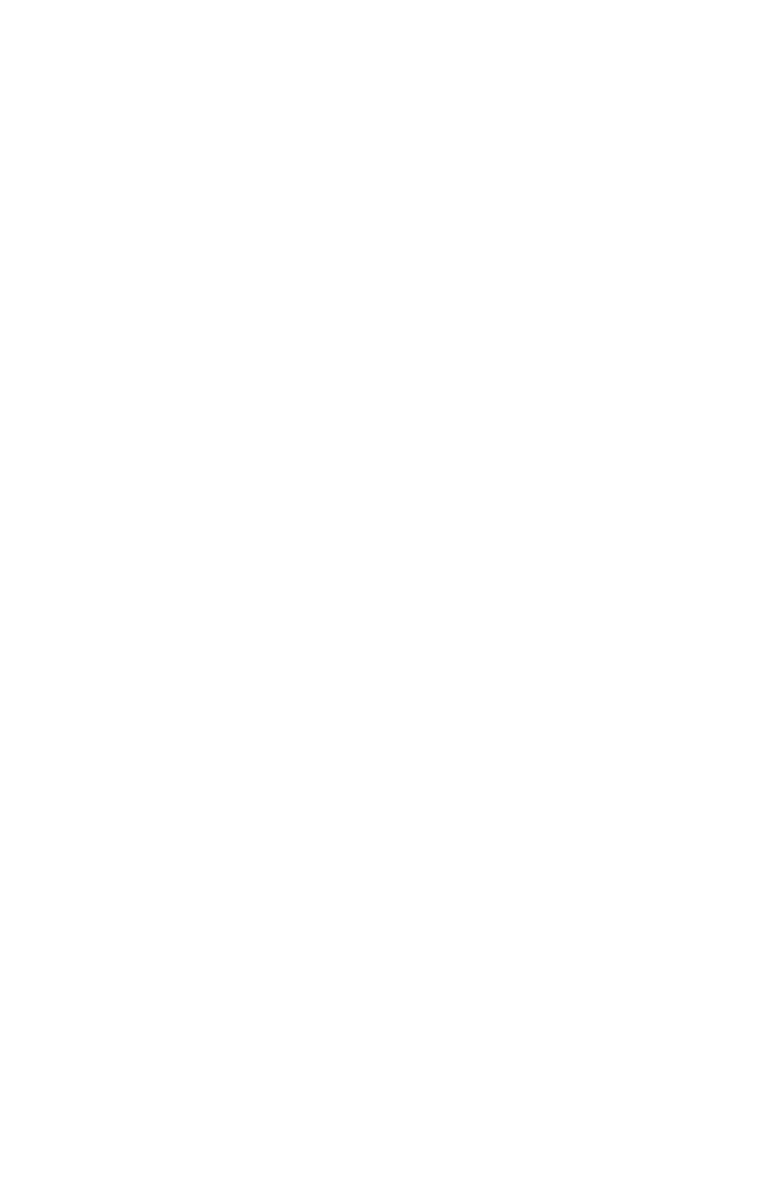
Чтобы по-настоящему понять эпоху, недостаточно просто знать её ключевых фигур, основные события и контекст. Важно проникнуть в мировосприятие того времени и особенности языка, ощутить дух эпохи. Всё это в изобилии присутствует в мемуарах Андрея Белого — символиста и мистика.
Его воспоминания напоминают лирическую прозу, поэтому вместо точных описаний событий и достоверных портретов часто встречаются мистические и поэтические образы. Из-за этого некоторые факты, изложенные Белым, стоит проверять. Однако в целом можно быть уверенным, что автор тонко передал атмосферу Серебряного века — времени жизнетворцев, мечтателей и разочаровавшихся идеалистов.
«...Эти влияния — газообразные выделения химического процесса, возникавшего от пересечения, столкновения и сочетания людей, отплывших каждый на собственной шлюпке от старого материка, охваченного землетрясением и выброшенных на берег неизвестной земли для решения вопроса, Индия она иль... Америка; жизнь вместе этих колонистов, подчас вынужденная, провела черту в биографии каждого; каждый из нас — человек с двойной жизнью; жизнь „до“ и жизнь „после“ отплытия имеет разную судьбу...»
Его воспоминания напоминают лирическую прозу, поэтому вместо точных описаний событий и достоверных портретов часто встречаются мистические и поэтические образы. Из-за этого некоторые факты, изложенные Белым, стоит проверять. Однако в целом можно быть уверенным, что автор тонко передал атмосферу Серебряного века — времени жизнетворцев, мечтателей и разочаровавшихся идеалистов.
«...Эти влияния — газообразные выделения химического процесса, возникавшего от пересечения, столкновения и сочетания людей, отплывших каждый на собственной шлюпке от старого материка, охваченного землетрясением и выброшенных на берег неизвестной земли для решения вопроса, Индия она иль... Америка; жизнь вместе этих колонистов, подчас вынужденная, провела черту в биографии каждого; каждый из нас — человек с двойной жизнью; жизнь „до“ и жизнь „после“ отплытия имеет разную судьбу...»
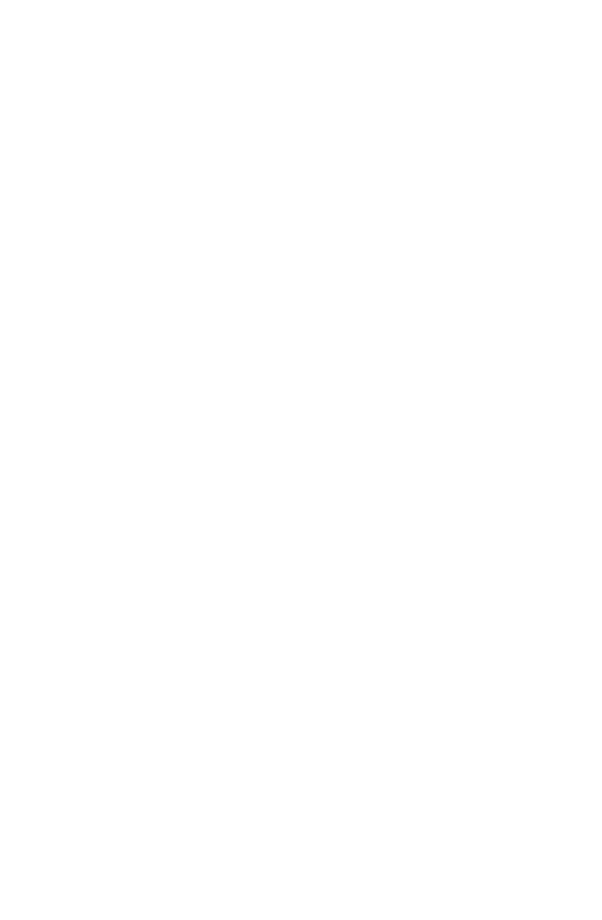
Зинаида Гиппиус, поэт, писательница и критик, и её муж Дмитрий Мережковский, религиозный писатель, были одними из первых идеологов символизма. На их Религиозно-философских собраниях представители светской культуры встречались с представителями церкви, стремясь обновить христианство. Они воплощали идею «Новой церкви» в необычной форме «тройственного союза» — духовной общины, которую они создали вместе с критиком Дмитрием Философовым, прожив с ним в одном доме 15 лет. В 1906 году они отправились в Париж, чтобы изучить «движение модернизма» и привезти его идеи в Россию.
Гиппиус и Мережковский провели вместе 52 года, не расставаясь ни на день. После смерти Мережковского в 1941 году Гиппиус прожила ещё четыре года, посвятив их написанию мемуаров о своём супруге. В своих воспоминаниях она описывает его жизнь, характер его религиозности, отношение к самодержавию и революции, а также даёт характеристики коллегам по литературному цеху — от Горького до Андрея Белого. Она освещает бурную литературную, философскую, журнальную и политическую жизнь России начала века до их бегства из Советской России через польский фронт.
Гиппиус и Мережковский провели вместе 52 года, не расставаясь ни на день. После смерти Мережковского в 1941 году Гиппиус прожила ещё четыре года, посвятив их написанию мемуаров о своём супруге. В своих воспоминаниях она описывает его жизнь, характер его религиозности, отношение к самодержавию и революции, а также даёт характеристики коллегам по литературному цеху — от Горького до Андрея Белого. Она освещает бурную литературную, философскую, журнальную и политическую жизнь России начала века до их бегства из Советской России через польский фронт.
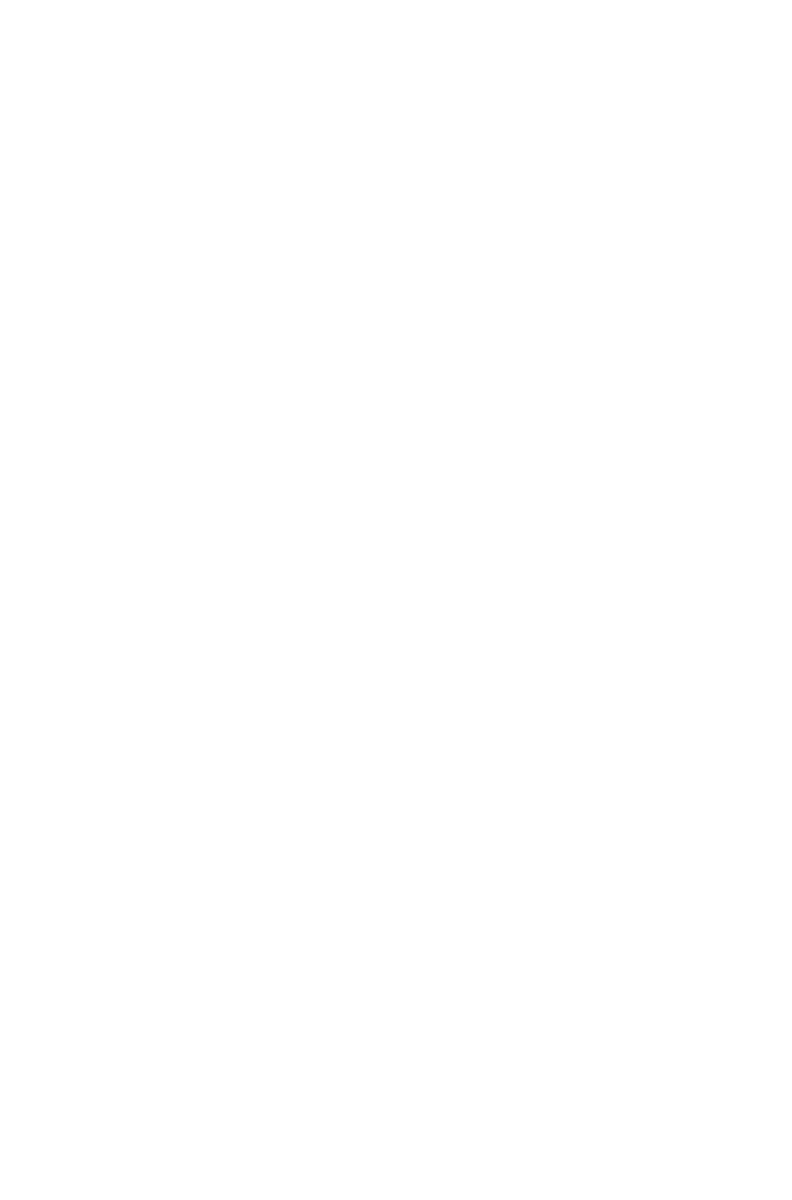
Мария Бекетова, родная тётка Александра Блока, написала одни из самых подробных воспоминаний о поэте, несмотря на то что чувствовала особый знак в всём, что связано с Блоком.
Вскоре после смерти поэта Бекетова начала работать над первым биографическим очерком о нём. Затем последовала более подробная книга «Александр Блок и его мать», в которой рассказывается о глубоком взаимопонимании между матерью и сыном, а также о характере Александры Андреевны Бекетовой. В книге отмечается, что она была одновременно подозрительной и доверчивой, в ней сочетались скептицизм и искренняя вера, высокомерие и самоуничижение.
Бекетова перерабатывала и уточняла свои книги, опираясь на личные воспоминания и письма Блока. Позже она написала семейную хронику Шахматова и очерк о юморе Блока, в котором опровергла мнение о том, что поэт был печальным человеком, далёким от простых радостей жизни.
Все эти тексты собраны в книге «Воспоминания об Александре Блоке», вышедшей в 1990 году. Один из самых интересных сюжетов в воспоминаниях Бекетовой — это сближение Блока с театром: от любительских спектаклей, в которых поэт играл с будущей женой Любовью Менделеевой, до работы со Станиславским в середине 1910-х годов. Также рассказывается, как Блок ходил с Любовью Дмитриевной на выступления куплетиста Михаила Савоярова, чтобы понять, как правильно читать вслух поэму «Двенадцать».
Вскоре после смерти поэта Бекетова начала работать над первым биографическим очерком о нём. Затем последовала более подробная книга «Александр Блок и его мать», в которой рассказывается о глубоком взаимопонимании между матерью и сыном, а также о характере Александры Андреевны Бекетовой. В книге отмечается, что она была одновременно подозрительной и доверчивой, в ней сочетались скептицизм и искренняя вера, высокомерие и самоуничижение.
Бекетова перерабатывала и уточняла свои книги, опираясь на личные воспоминания и письма Блока. Позже она написала семейную хронику Шахматова и очерк о юморе Блока, в котором опровергла мнение о том, что поэт был печальным человеком, далёким от простых радостей жизни.
Все эти тексты собраны в книге «Воспоминания об Александре Блоке», вышедшей в 1990 году. Один из самых интересных сюжетов в воспоминаниях Бекетовой — это сближение Блока с театром: от любительских спектаклей, в которых поэт играл с будущей женой Любовью Менделеевой, до работы со Станиславским в середине 1910-х годов. Также рассказывается, как Блок ходил с Любовью Дмитриевной на выступления куплетиста Михаила Савоярова, чтобы понять, как правильно читать вслух поэму «Двенадцать».
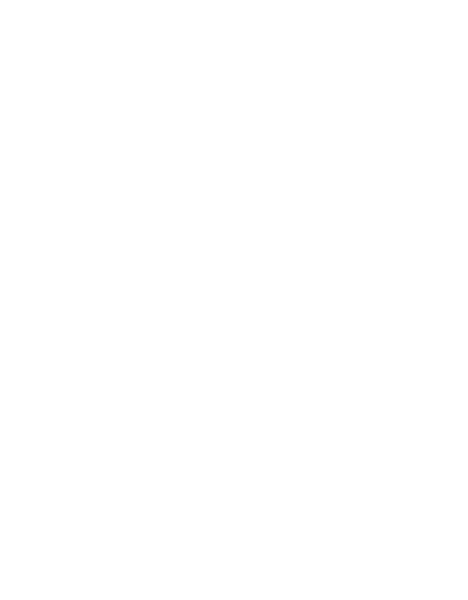
Когда Одоевцева вернулась из эмиграции (92-летняя вдова Георгия Иванова приехала в Ленинград в 1987 году, за три года до своей смерти), её спросили, чего она желает больше всего. «Славы!» — быстро ответила поэтесса.
Дилогия «На берегах Невы» и «На берегах Сены» получила признание читателей и принесла ей больше известности, чем все стихи. Свой рассказ Одоевцева начинает с периода заката Серебряного века, с последних «сумерек свободы».
В её книгах молодая ученица Гумилёва (что она подчёркивает неоднократно) почти каждый день оказывается в неожиданных ситуациях: она становится собеседницей мэтров Серебряного века или свидетельницей значимых событий. При ней Мандельштам сочиняет «Я слово позабыл, что я хотел сказать…», Гумилёв прячет деньги (вероятно, присланные ему тайной антисоветской организацией), а Андрей Белый раскрывает свою душу на скамейке Летнего сада:
«— Здравствуйте, Борис Николаевич! — И, сознавая, что гибну, прибавляю ещё громче: — Простите ради бога. Я сейчас, сейчас уйду. Совсем уйду.
Он взмахивает руками, взлетает, и вот он уже стоит передо мной и крепко держит меня за локоть.
— Нет, нет, не уходите, — почти кричит он. — Не пущу.
<…> Я сажусь на край скамьи, подальше от него, чтобы не мешать беспрерывному движению его рук. Это какой-то танец на месте, разворачивающийся на скамейке на расстоянии аршина от меня, — необычайно грациозный танец. Неужели всё это для меня одной? Ведь я — единственная зрительница этого балета, этого «небесного чистописания» его рук. <…> Но ему — я это помню — нет дела до меня. Я только повод для его прорвавшегося наконец наружу внутреннего монолога. И он говорит, говорит…»
Дилогия «На берегах Невы» и «На берегах Сены» получила признание читателей и принесла ей больше известности, чем все стихи. Свой рассказ Одоевцева начинает с периода заката Серебряного века, с последних «сумерек свободы».
В её книгах молодая ученица Гумилёва (что она подчёркивает неоднократно) почти каждый день оказывается в неожиданных ситуациях: она становится собеседницей мэтров Серебряного века или свидетельницей значимых событий. При ней Мандельштам сочиняет «Я слово позабыл, что я хотел сказать…», Гумилёв прячет деньги (вероятно, присланные ему тайной антисоветской организацией), а Андрей Белый раскрывает свою душу на скамейке Летнего сада:
«— Здравствуйте, Борис Николаевич! — И, сознавая, что гибну, прибавляю ещё громче: — Простите ради бога. Я сейчас, сейчас уйду. Совсем уйду.
Он взмахивает руками, взлетает, и вот он уже стоит передо мной и крепко держит меня за локоть.
— Нет, нет, не уходите, — почти кричит он. — Не пущу.
<…> Я сажусь на край скамьи, подальше от него, чтобы не мешать беспрерывному движению его рук. Это какой-то танец на месте, разворачивающийся на скамейке на расстоянии аршина от меня, — необычайно грациозный танец. Неужели всё это для меня одной? Ведь я — единственная зрительница этого балета, этого «небесного чистописания» его рук. <…> Но ему — я это помню — нет дела до меня. Я только повод для его прорвавшегося наконец наружу внутреннего монолога. И он говорит, говорит…»
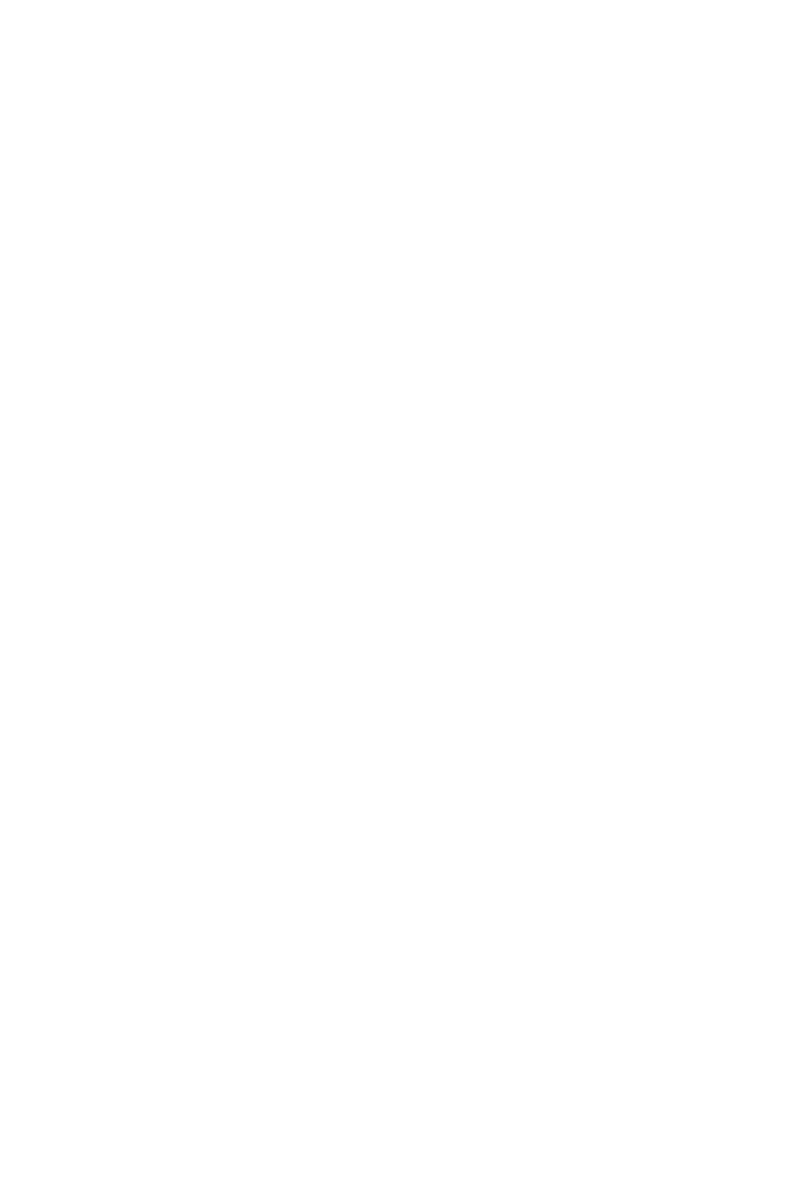
С детства всем знакомо имя Чуковского, однако не все в курсе, что создатель «Мухи-цокотухи» и «Айболита» был тесно связан с ключевыми фигурами Серебряного века и принимал активное участие в событиях того времени.
Чуковский отличался умением поддерживать отношения с самыми разными людьми, порой даже враждующими между собой. В его мемуарах можно встретить как представителей русского модернизма — Блока, Ахматову, Маяковского, Пастернака, Сологуба, Сашу Чёрного, Тынянова, так и литераторов-марксистов — Макаренко, Луначарского, Горького.
Благодаря способности подмечать забавные детали, Чуковский изображает своих героев не как статичные фигуры, а как живых людей. В его описаниях Куприн красит зелёной краской голову бывшего смотрителя тюрьмы, Луначарский обсуждает декрет о введении многоженства в России, а Маяковский предстаёт тонким ценителем иностранной литературы.
Чуковский отличался умением поддерживать отношения с самыми разными людьми, порой даже враждующими между собой. В его мемуарах можно встретить как представителей русского модернизма — Блока, Ахматову, Маяковского, Пастернака, Сологуба, Сашу Чёрного, Тынянова, так и литераторов-марксистов — Макаренко, Луначарского, Горького.
Благодаря способности подмечать забавные детали, Чуковский изображает своих героев не как статичные фигуры, а как живых людей. В его описаниях Куприн красит зелёной краской голову бывшего смотрителя тюрьмы, Луначарский обсуждает декрет о введении многоженства в России, а Маяковский предстаёт тонким ценителем иностранной литературы.
