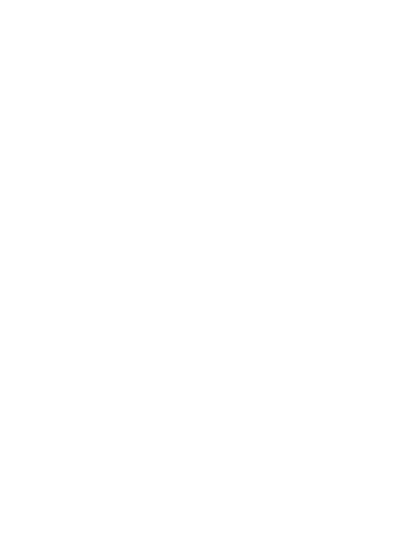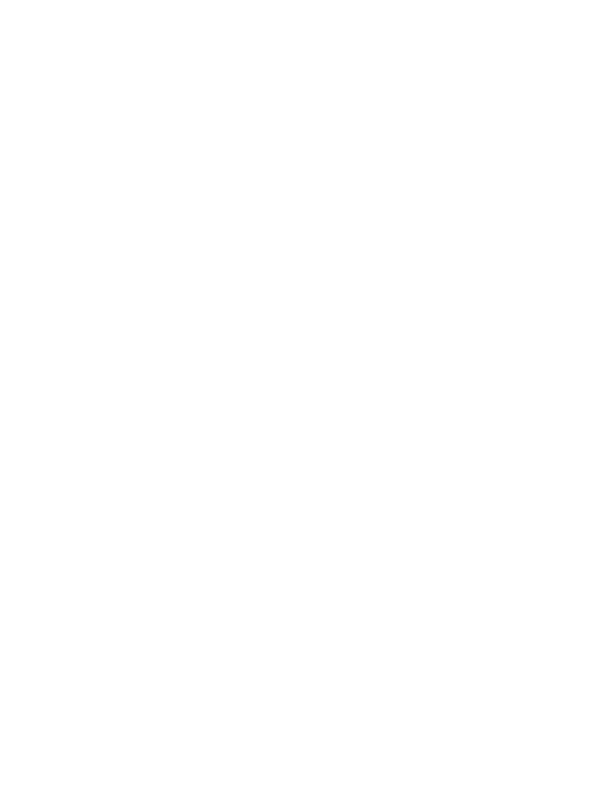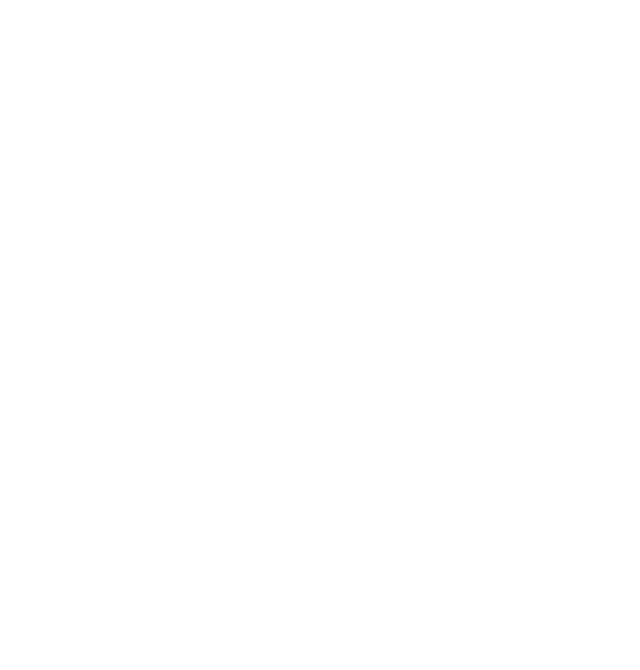Лекция ТРЕТЬя
ФУТУРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКА
Мы продолжаем цикл лекций о поэзии Серебряного века. В этот раз мы поговорим о футуристах, которые появились вместе с поэтами-акмеистами после эпохи русского символизма, расширили границы языка и изменили понимание категорий «поэтического» и «непоэтического».
ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ
Истоки возникновения футуризма
Футуризм — это модернистское литературное течение начала XX века. Автор термина — итальянский поэт Филиппо Томмазо Маринетти. В 1909 году он опубликовал «Первый манифест футуризма», где провозгласил, что на смену старому искусству пришло новое и оно должно спасти мир. Течение Маринетти назвал футуризмом — от латинского слова futurum — «будущее».
Футуризм появился практически неожиданно и с кричащими заголовками. Лозунги группы: «Нет шедевров без агрессивности», «Рычащий автомобиль, кажущийся бегущим по картечи, прекраснее Самофракийской Победы», «Мы хотим прославить войну — единственную гигиену мира», «Мы хотим разрушить музеи, библиотеки» — быстро распространились по Европе и достигли России. Сначала футуризм воспринимался критиками как мимолётное явление, новое веяние моды. Российские авангардные кружки поначалу не называли себя футуристами — это название им дали критики, увидев в их заявлениях сходство с итальянскими футуристами. Одним из первых среди русских поэтов, кто стал называть себя футуристом, добавив приставку «эго-», был Игорь Северянин. Те авторы, которых сегодня ассоциируют с футуризмом, называли себя «будетлянами» (от слова «будет», по аналогии с «земляне», «киевляне»). Позже образовались четыре основных кружка: «Гилея» (кубофутуристы), «эгофутуристы», «Центрифуга» и «Мезонин поэзии».
Давид Бурлюк. Портрет песнебойца футуриста Василия Каменского, 1916
Владимир Бурлюк. Портрет Елены Гуро, 1910
«Точильщик ножей» (1912–1913) Казимира Малевича — пример того, как кубизм и футуризм пересеклись, создав кубо-футуризм, смешанную форму искусства.
Участник одной из групп футуризма «Мезонин поэзии» Сергей Третьяков писал:
В чрезвычайно трудное положение попадают все, желающие определить футуризм (в частности, литературный) как школу, как литературное направление, связанное общностью приемов обработки материала, общностью стиля. Им обычно приходится плутать беспомощно между непохожими группировками... и останавливаться в недоумении между «песенником-архаиком» Хлебниковым, «трибуном-урбанистом» Маяковским, «эстет-агитатором» Бурлюком, «заумь-рычалой» Крученых. А если сюда прибавить «спеца по комнатному воздухоплаванию на фоккере синтаксиса» Пастернака, то пейзаж будет полон.
- Давид Бурлюк
- «Гилея»Слева направо: А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Бурлюк, Б. Лифшиц
- Владимир Маяковский
В группу «Центрифуга» входили Сергей Бобров, Борис Пастернак, Николай Асеев, Божидар (Богдан Гордеев).
Самым известным эгофутуристом был Игорь Северянин, но так называли себя и молодые поэты Иван Игнатьев, Василиск Гнедов, Константин Олимпов (сын популярного поэта конца XIX века Константина Фофанова), Георгий Иванов, Грааль-Арельский (Стефан Петров).
Группу «Мезонин поэзии» возглавлял Вадим Шершеневич, к нему присоединились поэты, поначалу входившие в группу эгофутуристов: Борис Лавренев, Константин Большаков, Сергей Третьяков, Рюрик Ивнев, Хрисанф (Лев Зак).
Наиболее заметной и активной среди футуристических объединений была группа «Гилея», название которой переводится с греческого как «лесная». В имении, где в 1910 году работал отец братьев Бурлюков, часто гостили их друзья — художники и поэты, и именно там зародилась «Гилея». В состав группы, помимо Бурлюков, входили Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Василий Каменский, Елена Гуро, Бенедикт Лившиц и другие представители авангардного искусства.
Центральной фигурой и идейным вдохновителем «Гилеи» был Давид Бурлюк — поэт, художник и теоретик футуризма. До конца своих дней (он умер в 1967 году в США) он подписывал свои произведения как «Давид Бурлюк. Отец русского футуризма». Современники отмечали его способность улавливать новые тенденции в искусстве и литературе, а также умение перенимать различные стилистические манеры — от народничества и символизма до творчества французских «проклятых» поэтов.
Бурлюк проявлял талант к усвоению новых художественных приемов и в живописи. По воспоминаниям Бенедикта Лившица, описанным в его мемуарах «Полутораглазый стрелец», Бурлюк с большим интересом изучал фотографию работы молодого Пабло Пикассо, анализируя его подход к изображению реальности. Когда один из братьев собирался писать портрет Лившица, Давид напутствовал его: «Распикась его как следует!»
Поддержка, которую Бурлюк оказывал молодым талантам, сыграла важную роль в творческой судьбе Маяковского. По признанию Владимира Владимировича, именно Бурлюк разглядел в нем «гениального поэта». В своей автобиографии «Я сам» Маяковский посвятил Бурлюку благодарный раздел «Прекрасный Бурлюк», называя его своим «действительным учителем» и отмечая: «Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. <…> Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая».
Самым известным эгофутуристом был Игорь Северянин, но так называли себя и молодые поэты Иван Игнатьев, Василиск Гнедов, Константин Олимпов (сын популярного поэта конца XIX века Константина Фофанова), Георгий Иванов, Грааль-Арельский (Стефан Петров).
Группу «Мезонин поэзии» возглавлял Вадим Шершеневич, к нему присоединились поэты, поначалу входившие в группу эгофутуристов: Борис Лавренев, Константин Большаков, Сергей Третьяков, Рюрик Ивнев, Хрисанф (Лев Зак).
Наиболее заметной и активной среди футуристических объединений была группа «Гилея», название которой переводится с греческого как «лесная». В имении, где в 1910 году работал отец братьев Бурлюков, часто гостили их друзья — художники и поэты, и именно там зародилась «Гилея». В состав группы, помимо Бурлюков, входили Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Василий Каменский, Елена Гуро, Бенедикт Лившиц и другие представители авангардного искусства.
Центральной фигурой и идейным вдохновителем «Гилеи» был Давид Бурлюк — поэт, художник и теоретик футуризма. До конца своих дней (он умер в 1967 году в США) он подписывал свои произведения как «Давид Бурлюк. Отец русского футуризма». Современники отмечали его способность улавливать новые тенденции в искусстве и литературе, а также умение перенимать различные стилистические манеры — от народничества и символизма до творчества французских «проклятых» поэтов.
Бурлюк проявлял талант к усвоению новых художественных приемов и в живописи. По воспоминаниям Бенедикта Лившица, описанным в его мемуарах «Полутораглазый стрелец», Бурлюк с большим интересом изучал фотографию работы молодого Пабло Пикассо, анализируя его подход к изображению реальности. Когда один из братьев собирался писать портрет Лившица, Давид напутствовал его: «Распикась его как следует!»
Поддержка, которую Бурлюк оказывал молодым талантам, сыграла важную роль в творческой судьбе Маяковского. По признанию Владимира Владимировича, именно Бурлюк разглядел в нем «гениального поэта». В своей автобиографии «Я сам» Маяковский посвятил Бурлюку благодарный раздел «Прекрасный Бурлюк», называя его своим «действительным учителем» и отмечая: «Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. <…> Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая».
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.
— Владимир Маяковский
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.
— Владимир Маяковский
Изображение: Давид Бурлюк
В чем заключалась особенность футуристической школы и как она проявлялась?
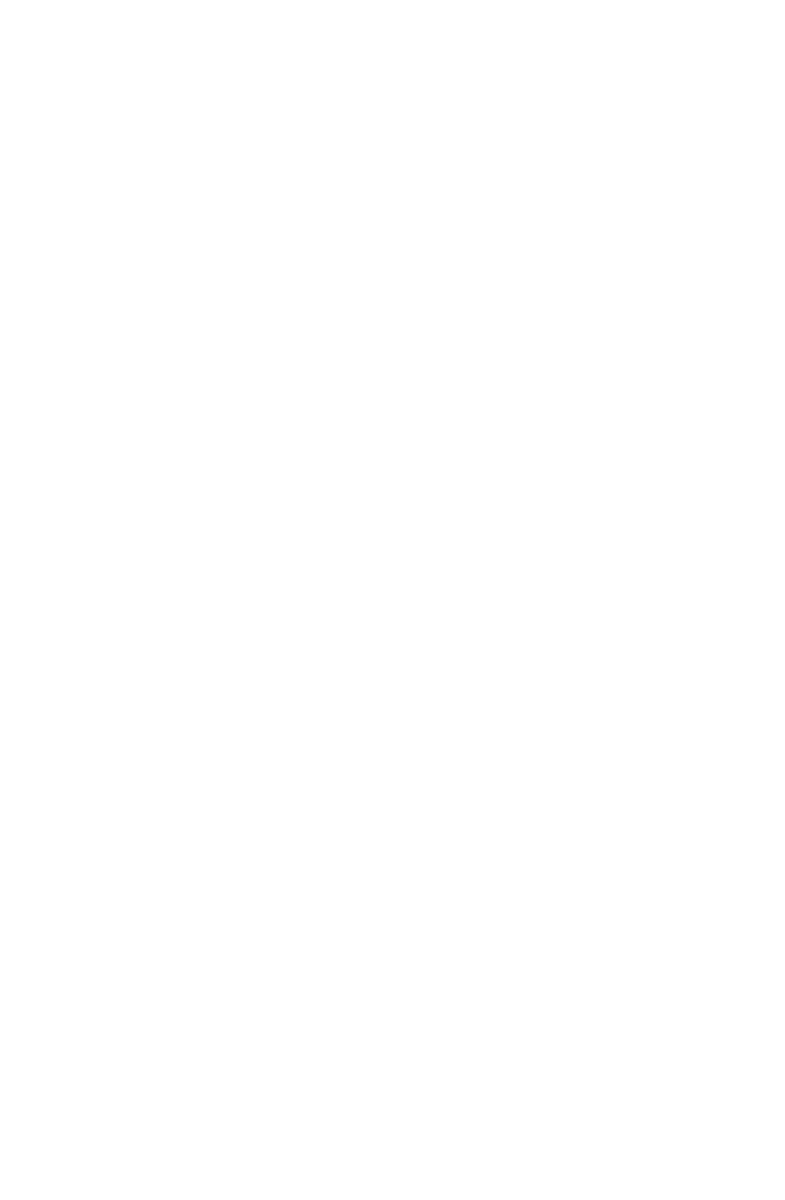
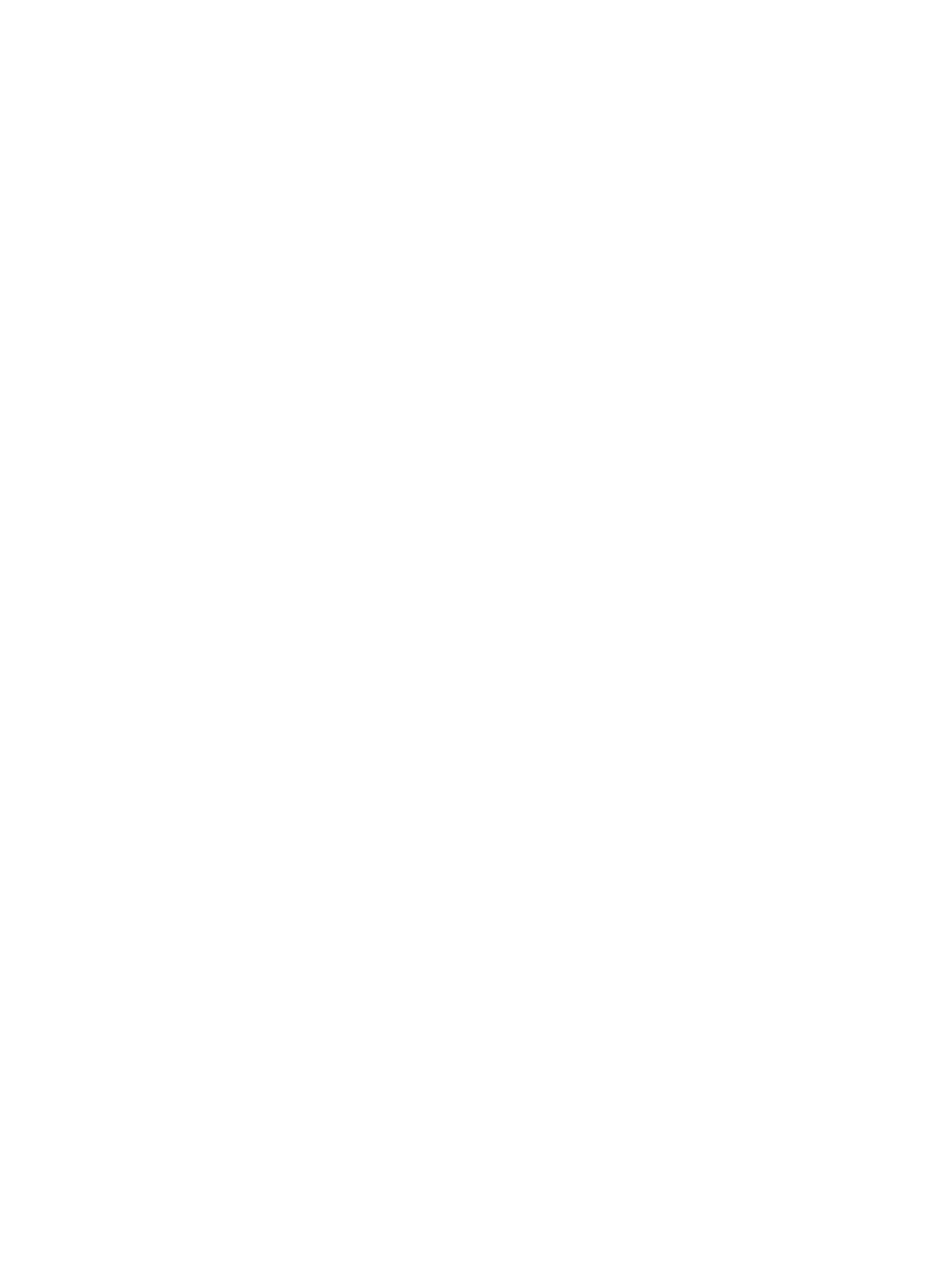
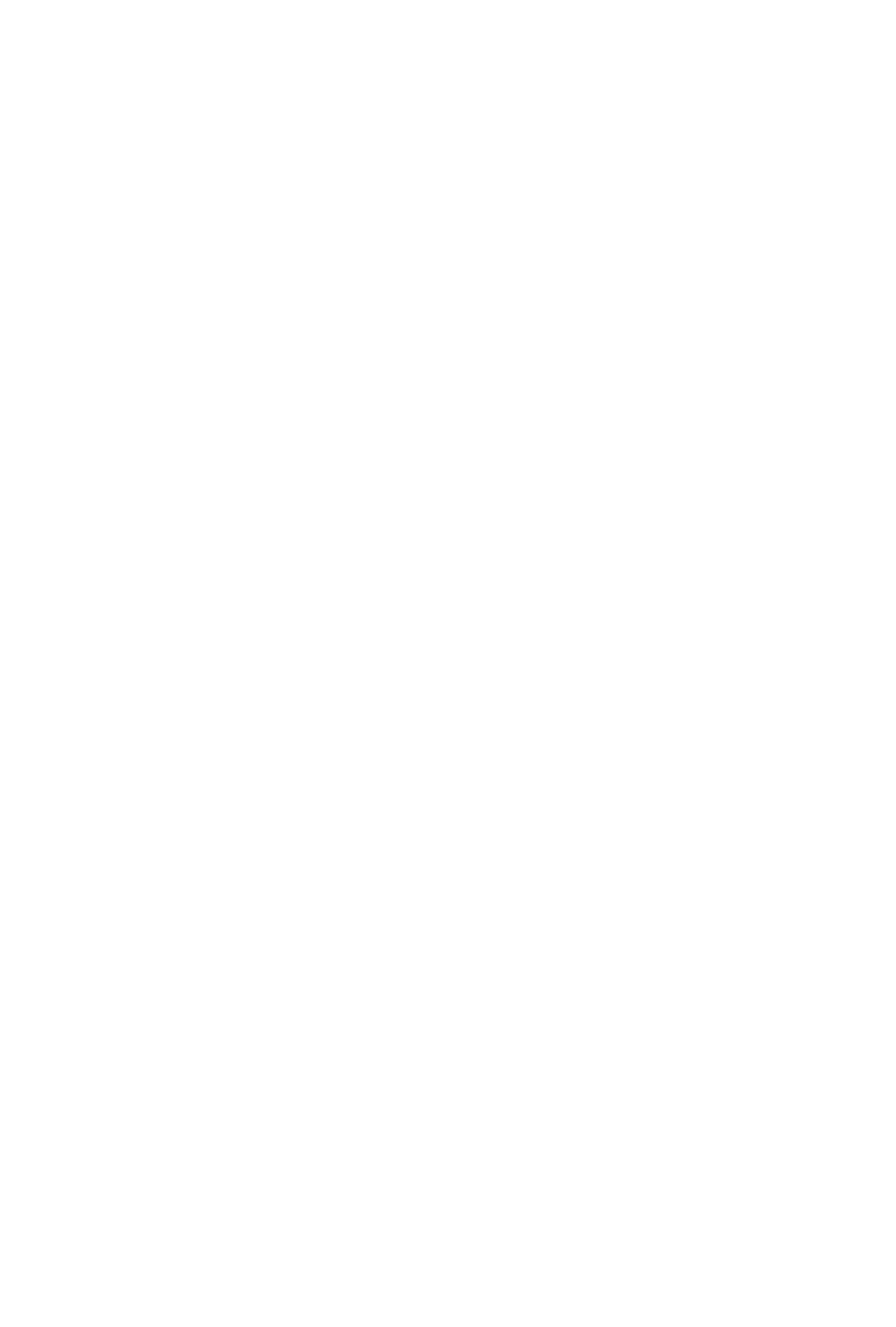
Прежде всего, футуристы выделялись тем, что, в отличие от символистов и акмеистов, не имели своего постоянного журнала. Попытки его создать обычно заканчивались после выпуска первого номера. Например, «Первый журнал русских футуристов» под номером 1–2, увидевший свет в 1914 году, так и остался единственным выпуском. Вместо журналов футуристы успешно использовали коллективные сборники, которые включали не только художественные произведения, но и манифесты нового направления.
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском - это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы - в Нагасаки! Из Нью-Йорка - на Марс!
— Игорь Северянин
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском - это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы - в Нагасаки! Из Нью-Йорка - на Марс!
— Игорь Северянин
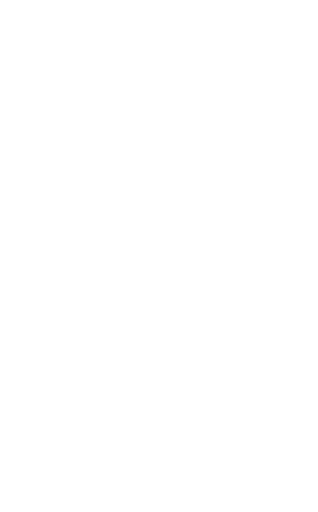
Елена Гуро
В первые годы своего существования футуристы преимущественно выпускали коллективные сборники. В первой половине 1910-х годов у Маяковского, Хлебникова и Бурлюка не было авторских сборников. Лишь некоторые авторы, такие как Алексей Крученых («Взорваль», «Старинная любовь», «Помада»), Елена Гуро («Шарманка», «Небесные верблюжата»), Василий Каменский («Танго с коровами», «Железобетонные поэмы»), Николай Асеев («Ночная флейта») и Борис Пастернак («Близнец в тучах»), выпустили небольшие книги.
Гораздо важнее для читателей были знаковые сборники-декларации, созданные несколькими авторами: «Садок судей» (1910 — братья Бурлюки, Хлебников, Каменский, Гуро, Екатерина Низен; во втором издании 1912 года — братья Бурлюки, Хлебников, Гуро, Маяковский, Лившиц, Крученых, Низен) и «Пощечина общественному вкусу» (1912 — братья Бурлюки, Маяковский, Крученых, Лившиц).
Участники «Центрифуги», «Мезонина поэзии» и эгофутуристы (за исключением Северянина) заявили о себе коллективным сборником «Руконог» (1914), в который вошли стихи Ивана Игнатьева, Василиска Гнедова, Бориса Пастернака, Елизаветы Кузьминой-Караваевой, Рюрика Ивнева, Павла Широкова, Божидара и других. Сборник был посвящён памяти Игнатьева, который покончил жизнь самоубийством в начале 1914 года.
Игорь Северянин почти единственный из футуристов игнорировал коллективные выступления (не зря к именованию своей группы он добавил начальное «эго»). Не сумев сначала наладить контакты с издательствами, он выпускал небольшие сборники за свой счёт (с 1904 по 1912 год вышло 35 книжек, от 4 до 24 страниц каждая). В 1913 году издательство «Гриф» выпустило его главную книгу лирики «Громокипящий кубок» с предисловием Федора Сологуба, что положило начало его популярности у массового читателя.
Гораздо важнее для читателей были знаковые сборники-декларации, созданные несколькими авторами: «Садок судей» (1910 — братья Бурлюки, Хлебников, Каменский, Гуро, Екатерина Низен; во втором издании 1912 года — братья Бурлюки, Хлебников, Гуро, Маяковский, Лившиц, Крученых, Низен) и «Пощечина общественному вкусу» (1912 — братья Бурлюки, Маяковский, Крученых, Лившиц).
Участники «Центрифуги», «Мезонина поэзии» и эгофутуристы (за исключением Северянина) заявили о себе коллективным сборником «Руконог» (1914), в который вошли стихи Ивана Игнатьева, Василиска Гнедова, Бориса Пастернака, Елизаветы Кузьминой-Караваевой, Рюрика Ивнева, Павла Широкова, Божидара и других. Сборник был посвящён памяти Игнатьева, который покончил жизнь самоубийством в начале 1914 года.
Игорь Северянин почти единственный из футуристов игнорировал коллективные выступления (не зря к именованию своей группы он добавил начальное «эго»). Не сумев сначала наладить контакты с издательствами, он выпускал небольшие сборники за свой счёт (с 1904 по 1912 год вышло 35 книжек, от 4 до 24 страниц каждая). В 1913 году издательство «Гриф» выпустило его главную книгу лирики «Громокипящий кубок» с предисловием Федора Сологуба, что положило начало его популярности у массового читателя.
В отличие от символистов, которые считали музыку высшим из искусств, футуристы придавали наибольшее значение живописи и другим видам изобразительного искусства. Среди крупнейших поэтов-футуристов были профессиональные художники — Маяковский, Давид Бурлюк, Елена Гуро. Известны графические работы Хлебникова, эксперименты с шрифтами и фигурные стихи в сборнике Василия Каменского «Танго с коровами», попытки Алексея Крученых возродить рукописные литографические книги (выпускались крошечным тиражом в 3–5 экземпляров). Футуристы активно участвовали в деятельности авангардных художественных объединений, таких как «Союз молодежи» и «Бубновый валет». Можно с уверенностью сказать, что русские футуристы из «Гилеи» и близких им по духу объединений были частью большого европейского авангарда, который включал в себя Маринетти, лидера дадаистов Тристана Тцары, Пабло Пикассо и французских сюрреалистов. Многие русские футуристы были связаны с европейскими авангардистами личной дружбой и даже родством (например, Луи Арагон был женат на Эльзе Триоле, родной сестре Лили Брик).
Наконец, с точки зрения поэтики футуризм отличался максимальным разнообразием по сравнению с другими направлениями, и это разнообразие выходило за рамки отдельных групп и объединений. Среди гилейцев и эгофутуристов были сторонники «заумного» языка, такие как Крученых, Илья Зданевич, Александр Туфанов или Василиск Гнедов, автор радикальной книги «Смерть искусству» (в неё вошли 15 миниатюрных «поэм», последняя из которых, «Поэма конца», представляла собой пустую страницу). Велимир Хлебников также использовал «заумь» в некоторых своих произведениях, таких как «Зангези» и другие большие «сверхповести». С другой стороны, к футуристам относили себя такие поэты, как Константин Большаков и Сергей Бобров, чьи стихи, скорее экспрессионистские и экспериментирующие с ритмом, все же были вполне «семантичными», и их смысл легко воспринимался.
Наконец, с точки зрения поэтики футуризм отличался максимальным разнообразием по сравнению с другими направлениями, и это разнообразие выходило за рамки отдельных групп и объединений. Среди гилейцев и эгофутуристов были сторонники «заумного» языка, такие как Крученых, Илья Зданевич, Александр Туфанов или Василиск Гнедов, автор радикальной книги «Смерть искусству» (в неё вошли 15 миниатюрных «поэм», последняя из которых, «Поэма конца», представляла собой пустую страницу). Велимир Хлебников также использовал «заумь» в некоторых своих произведениях, таких как «Зангези» и другие большие «сверхповести». С другой стороны, к футуристам относили себя такие поэты, как Константин Большаков и Сергей Бобров, чьи стихи, скорее экспрессионистские и экспериментирующие с ритмом, все же были вполне «семантичными», и их смысл легко воспринимался.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево!
Усмей, осмей, смешики, смешики!
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
— Велимир Хлебников
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево!
Усмей, осмей, смешики, смешики!
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
— Велимир Хлебников
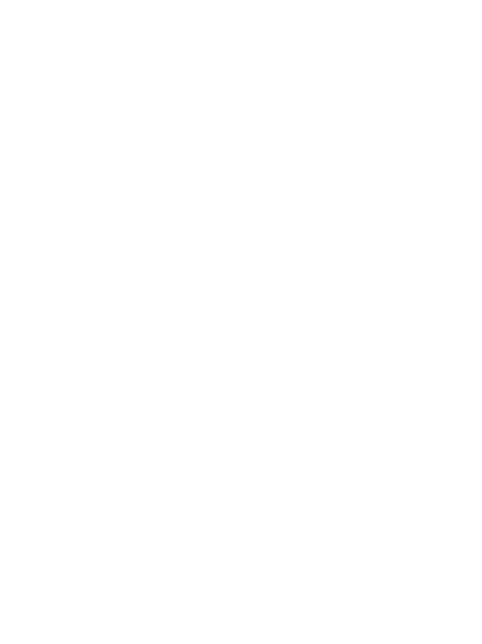
Пощечина общественному вкусу, 1912
Среди футуристов были авторы, стремившиеся к громкому и мгновенному эффекту, такие как Маяковский или Бурлюк, и те, кто ориентировался на самоанализ и интроспекцию, например, Елена Гуро. Между представителями направления часто возникали конфликты, но это не мешало им иногда объединяться для совместных проектов, таких как выпуск сборников или гастрольные выступления. Известны саркастические отзывы Маяковского о Северянине и Шершеневича о Пастернаке, Боброве и Асееве.
Первый сборник футуристов «Садок судей» (1910), напечатанный на обратной стороне обоев, остался практически незамеченным. По воспоминаниям Михаила Матюшина, художника и композитора, братья Бурлюки раздали экземпляры сборника посетителям вечера на «Башне» Вячеслава Иванова, но это не вызвало значительного отклика. «На наше первое выступление символисты почти не обратили внимания, приняв бомбу за обыкновенную детскую хлопушку», — писал Матюшин.
Однако второй сборник «будетлян» — «Пощечина общественному вкусу» (1912), декларация из которого в 1913 году была выпущена отдельной листовкой, — произвел настоящий скандал, и его название стало нарицательным. Эпатирующими были и названия последующих футуристических сборников и альманахов: «Дохлая луна», «Затычка», «Молоко кобылиц». Художественные группировки, родственные футуризму, именовались «Ослиный хвост» и «Бубновый валет».
Первый сборник футуристов «Садок судей» (1910), напечатанный на обратной стороне обоев, остался практически незамеченным. По воспоминаниям Михаила Матюшина, художника и композитора, братья Бурлюки раздали экземпляры сборника посетителям вечера на «Башне» Вячеслава Иванова, но это не вызвало значительного отклика. «На наше первое выступление символисты почти не обратили внимания, приняв бомбу за обыкновенную детскую хлопушку», — писал Матюшин.
Однако второй сборник «будетлян» — «Пощечина общественному вкусу» (1912), декларация из которого в 1913 году была выпущена отдельной листовкой, — произвел настоящий скандал, и его название стало нарицательным. Эпатирующими были и названия последующих футуристических сборников и альманахов: «Дохлая луна», «Затычка», «Молоко кобылиц». Художественные группировки, родственные футуризму, именовались «Ослиный хвост» и «Бубновый валет».
Слева направо: поэты Борис Городецкий, Василий Каменский, Владимир Маяковский и Давид Бурлюк, 1914 год
Дыр бул щыл
убеш щур
скум
вы со бу
р л эз
— Алексей Крученых
убеш щур
скум
вы со бу
р л эз
— Алексей Крученых
Критики обсуждали лозунги, которые заявляли о полном разрыве новой школы с классическими традициями и всей современной литературой: «Только мы — лицо нашего Времени», «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». В манифесте поэзию Бальмонта называли «парфюмерным блудом», книги Леонида Андреева — «грязной слизью», а остальных авторов обвиняли в «ничтожестве»: «Всем этим… Куприным, Блокам, Сологубам, Аверченко, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. — нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным».
В своем отрицании культурных традиций русские «будетляне» действительно напоминали итальянских футуристов. Однако они не воспевали войну и агрессию, у них не было культа техники. Более того, в самом отрицании традиций скрывалось некое лукавство.
Например, в одном из тезисов «Пощечины общественному вкусу» — «Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней» — заложено как минимум два важных культурных контекста. Первый — цитата из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса): «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 4:2). В богословских толкованиях акцент делается на постепенном ослабевании у человека изначальной глубокой веры. Однако для человека Серебряного века, прежде всего для Владимира Соловьева и его последователей, «первая любовь» — это изначальное непосредственное постижение мировой мудрости, которое может смениться периодом антитезы и трудным путём к новому её постижению («последней любви»).
Второй культурный контекст, очевидный для русского читателя, — стихотворение Тютчева «Последняя любовь», в котором финальное возвращение к мировой мудрости сопряжено с трагическими утратами («О ты, последняя любовь! / Ты и блаженство, и безнадёжность!»).
В своем отрицании культурных традиций русские «будетляне» действительно напоминали итальянских футуристов. Однако они не воспевали войну и агрессию, у них не было культа техники. Более того, в самом отрицании традиций скрывалось некое лукавство.
Например, в одном из тезисов «Пощечины общественному вкусу» — «Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней» — заложено как минимум два важных культурных контекста. Первый — цитата из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса): «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Откр. 4:2). В богословских толкованиях акцент делается на постепенном ослабевании у человека изначальной глубокой веры. Однако для человека Серебряного века, прежде всего для Владимира Соловьева и его последователей, «первая любовь» — это изначальное непосредственное постижение мировой мудрости, которое может смениться периодом антитезы и трудным путём к новому её постижению («последней любви»).
Второй культурный контекст, очевидный для русского читателя, — стихотворение Тютчева «Последняя любовь», в котором финальное возвращение к мировой мудрости сопряжено с трагическими утратами («О ты, последняя любовь! / Ты и блаженство, и безнадёжность!»).
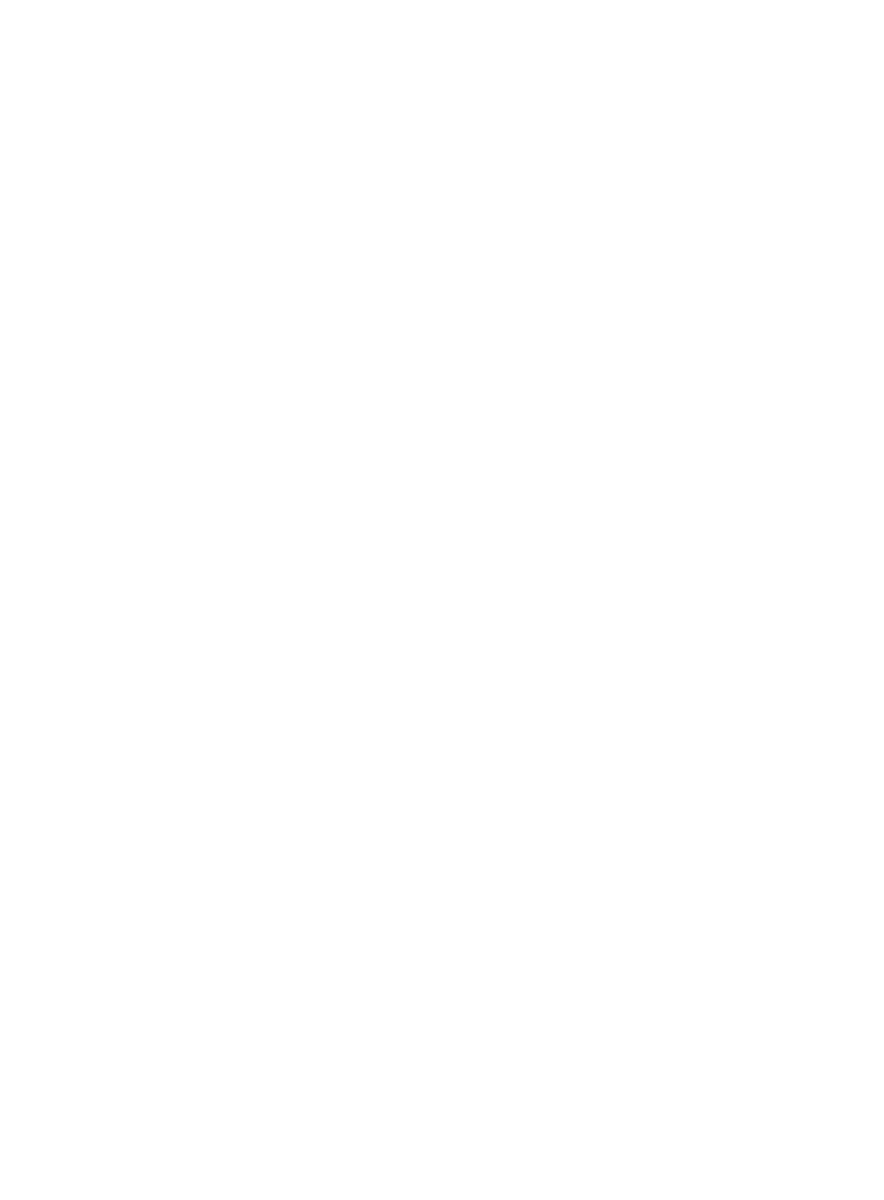
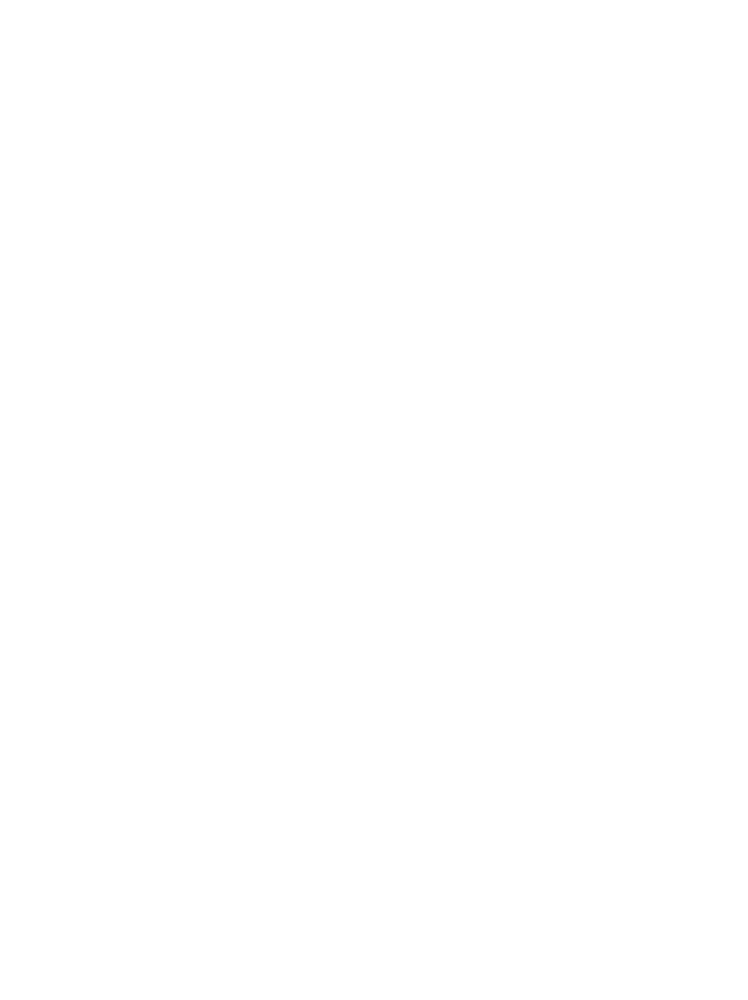
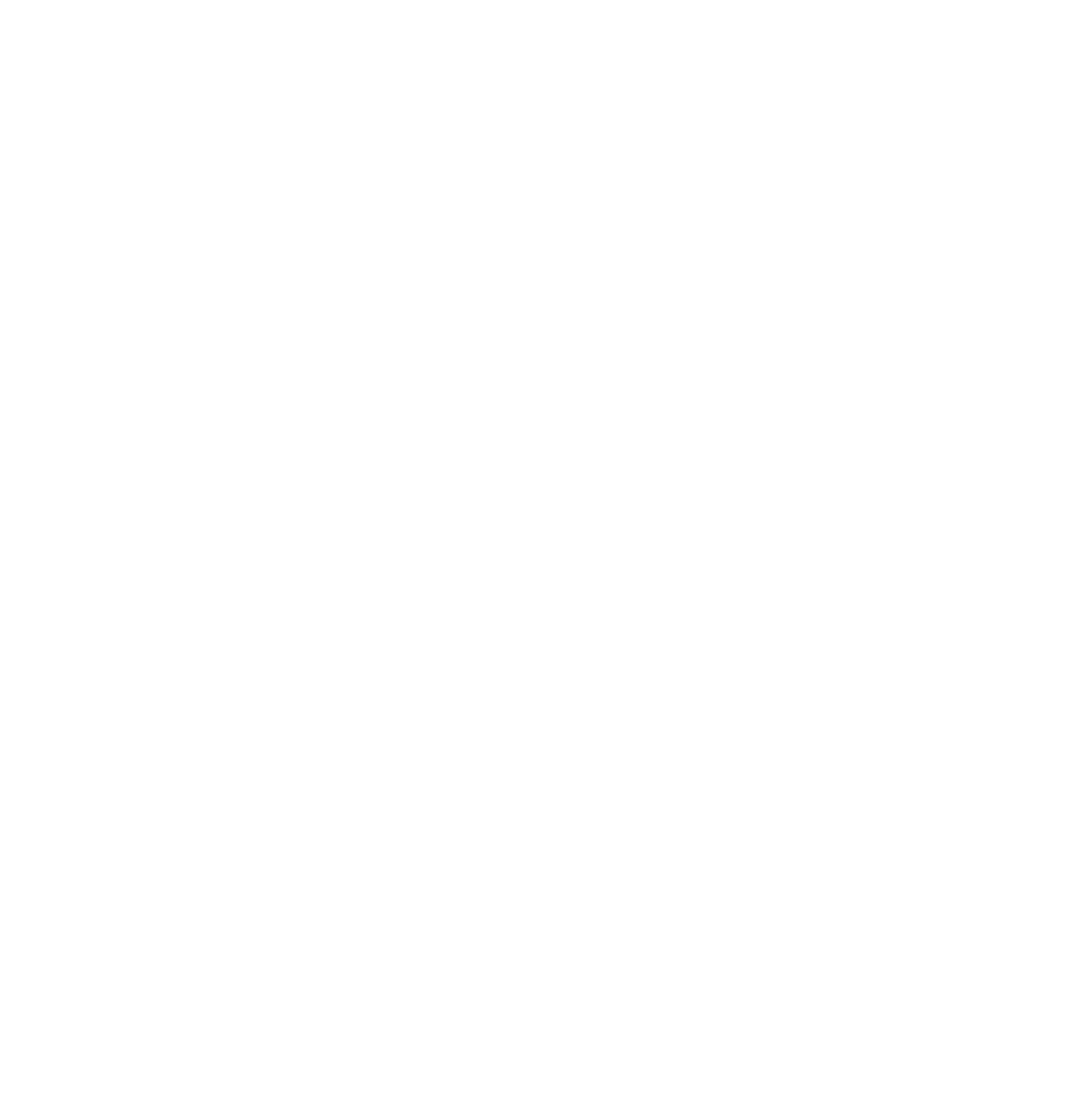
При сравнении деклараций из сборников «Пощечина общественному вкусу» и «Садок судей II» становится очевидно, что футуристы эволюционируют от нигилистического отказа от классической и современной культуры к формулировке принципов поэтики своего направления. Причем эти принципы имеют ярко выраженный филологический, если не сказать лингвистический характер:
1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.
3. Hами осознана роль приставок и суффиксов.
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами:
а) считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого ожидания;
б) в почерке полагая составляющую поэтического импульса;
в) в Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «Само-письма».
6. Hами уничтожены знаки препинания, — чем роль словесной массы выдвинута впервые и осознана.
7. Гласные мы понимаем как время и пространство (характер устремления), согласные — краска, звук, запах.
8. Hами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер — живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках — всякое движение рождает новый свободный ритм поэту.
9. Передняя рифма (Давид Бурлюк); средняя, обратная рифма (В. Маяковский) разработаны нами.
10. Богатство словаря поэта — его оправдание.
11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности воспеты нами.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.
3. Hами осознана роль приставок и суффиксов.
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами:
а) считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого ожидания;
б) в почерке полагая составляющую поэтического импульса;
в) в Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «Само-письма».
6. Hами уничтожены знаки препинания, — чем роль словесной массы выдвинута впервые и осознана.
7. Гласные мы понимаем как время и пространство (характер устремления), согласные — краска, звук, запах.
8. Hами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер — живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках — всякое движение рождает новый свободный ритм поэту.
9. Передняя рифма (Давид Бурлюк); средняя, обратная рифма (В. Маяковский) разработаны нами.
10. Богатство словаря поэта — его оправдание.
11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности воспеты нами.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.
Слева направо в центре стоят: поэты Давид Бурлюк и Владимир Маяковский. Кадр из фильма «Не для денег родившийся». Сцена в кафе поэтов. Москва, 1918 год Фотография: Евгений Славинский / Государственный музей В.В. Маяковского, Москва
Пара с корзинами. Велимир Хлебников на Украине. 1919–1920 годы Фотография из семейного архива Лары Симоновой / russiainphoto.ru
Поэт Игорь Северянин. 1910-е годы Фотография: Лев Леонидов / Мультимедиа Арт Музей, Москва
Корней Чуковский описал разницу между кубо- и эгофутуристами в статье:
“
А московский Крученых говорит: наплевать!
— То есть позвольте: на что наплевать?
— На все!
— То есть как это: на все?
— Да так!
Это не то что Игорь. Тот такой субтильный, тонконогий, все расшаркивается, да все по-французски; этот — в сапожищах, стоеросовый, и не говорит, а словно буркает:
Дыр бул щыл
Ха ра бау.
“
А московский Крученых говорит: наплевать!
— То есть позвольте: на что наплевать?
— На все!
— То есть как это: на все?
— Да так!
Это не то что Игорь. Тот такой субтильный, тонконогий, все расшаркивается, да все по-французски; этот — в сапожищах, стоеросовый, и не говорит, а словно буркает:
Дыр бул щыл
Ха ра бау.
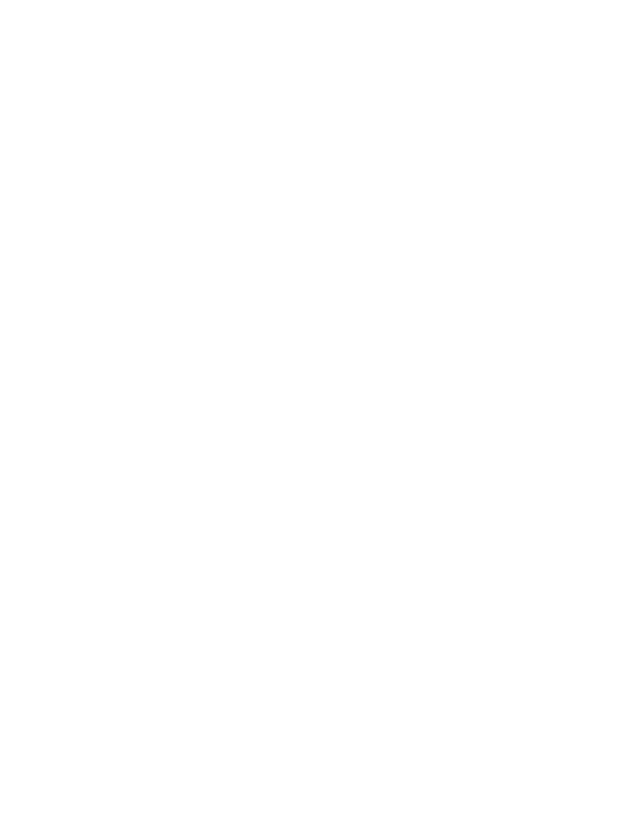
Владимир Маяковский
Выступления футуристов на поэтических вечерах, диспутах и публичных лекциях были еще более скандальными, чем их эпатажные декларации. Бурлюк и Маяковский даже отправились в тур по России, чтобы читать лекции о новом направлении. Прямой контакт с аудиторией и стремление к скандалу успешно компенсировали отсутствие у футуристов собственного журнала.
Футуристы приходили на лекции с раскрашенными лицами, с пучками моркови в петлицах и в нарочито экстравагантных нарядах (например, желтая кофта Маяковского или его розовый смокинг). Они вступали в перебранки с публикой, а иногда даже в драки. Порой приходилось вызывать полицию. Газеты пестрели заголовками вроде «Поэзия свихнувшихся мозгов» и «Рыцари безумия», публикуя отклики на сборники и вечера.
Футуристы приходили на лекции с раскрашенными лицами, с пучками моркови в петлицах и в нарочито экстравагантных нарядах (например, желтая кофта Маяковского или его розовый смокинг). Они вступали в перебранки с публикой, а иногда даже в драки. Порой приходилось вызывать полицию. Газеты пестрели заголовками вроде «Поэзия свихнувшихся мозгов» и «Рыцари безумия», публикуя отклики на сборники и вечера.
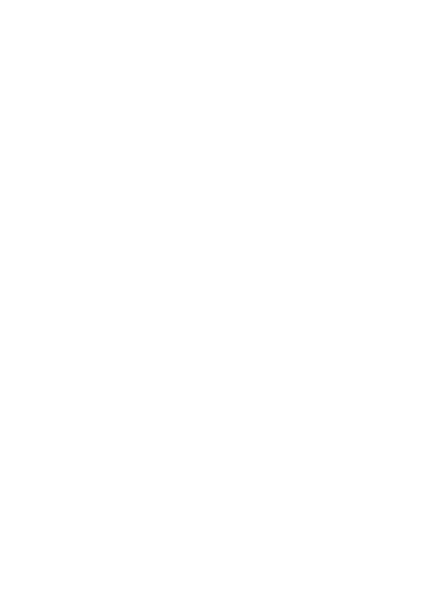
Игорь Северянин
Иначе выстраивал свой публичный образ Игорь Северянин. Он предпочитал выступать самостоятельно, свои вечера называл «Эгические поэзовечера» или «Поэзоконцерты». Он появлялся на сцене в длинном черном сюртуке с орхидеей в петлице, распевая свои стихи на мотивы цыганских романсов или шансонеток. На вечера «будетлян» публика поначалу ходила поглазеть на скандал. Северянина осаждали восторженные поклонницы — после выхода сборника «Громокипящий кубок» (1913) он стал самым модным поэтом. Дело доходило до того, что Северянин печатно объявлял о часах, когда он готов принимать поклонниц и букеты.
За эпатажными поступками и явной саморекламой скрывались значительные достижения футуристов в области поэтического языка и обновления жанров. В своих манифестах они настаивали на праве поэтов «увеличивать словарь за счёт произвольных и производных слов». Этот процесс они именовали «слово-новшество» или «словотворчество». Футуристы видели смысл и цель поэтического творчества в «слове как таковом» (так назывался один из известных футуристических манифестов). Но что на практике значило это требование?
За эпатажными поступками и явной саморекламой скрывались значительные достижения футуристов в области поэтического языка и обновления жанров. В своих манифестах они настаивали на праве поэтов «увеличивать словарь за счёт произвольных и производных слов». Этот процесс они именовали «слово-новшество» или «словотворчество». Футуристы видели смысл и цель поэтического творчества в «слове как таковом» (так назывался один из известных футуристических манифестов). Но что на практике значило это требование?
Слева направо стоят: поэт Николай Бурлюк, Давид Бурлюк, поэт Владимир Маяковский. Слева направо сидят: поэт Велимир Хлебников, художник Леонид Кузьмин и поэт Сергей Долинский. Москва, 1912 год
Фотография: Государственный музей В.В. Маяковского, Москва
Фотография: Государственный музей В.В. Маяковского, Москва
Футуристы создавали многозначность совершенно иным способом, и это главное их отличие: они достигали ее через языковые средства и изобретение новых слов. Принцип словотворчества оказался весьма влиятельным и прослеживается почти у всех поэтов-футуристов. Современники порой воспринимали футуристические стихи как бессмыслицу, особенно учитывая, что футуристы заявляли о необходимости создания заумного языка, где значимые слова заменяются произвольным набором звуков. Алексей Крученых в «Декларации слова, как такового» объяснял: «Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена».
Футуристы, в отличие от других поэтических школ, гораздо шире допускали разнообразные языковые эксперименты. Эти эксперименты открывали новые возможности для осмысления поэтического слова. Однако футуристическое стихотворение выделялось не только смелыми языковыми экспериментами, но и новым пониманием «поэтического» и «непоэтического». Футуристы находили поэзию в том, что ускользало от внимания классиков и символистов. В то же время они намеренно снижали и пародировали образы традиционной «высокой» поэзии.
Футуристы, в отличие от других поэтических школ, гораздо шире допускали разнообразные языковые эксперименты. Эти эксперименты открывали новые возможности для осмысления поэтического слова. Однако футуристическое стихотворение выделялось не только смелыми языковыми экспериментами, но и новым пониманием «поэтического» и «непоэтического». Футуристы находили поэзию в том, что ускользало от внимания классиков и символистов. В то же время они намеренно снижали и пародировали образы традиционной «высокой» поэзии.
Давид Бурлюк. Пятидесятитысячелетняя женщина на Марсе, 1922
Давид Бурлюк. Всадник-смерть, 1911
Давид Бурлюк. Голубой конь, 1917
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»
— Владимир Маяковский
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»
— Владимир Маяковский
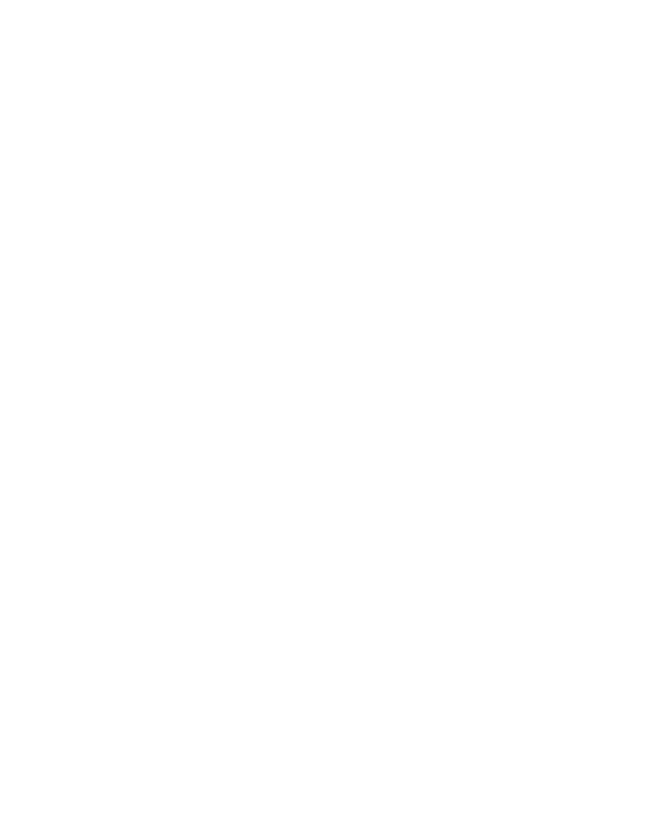
Владимир Маяковский
После 1917 некоторые футуристы оказались в эмиграции — среди них Давид Бурлюк, Игорь Северянин и Илья Зданевич. Большинство же осталось в Советской России.
На какое-то время появилась надежда, что объединение «Левый фронт искусств» (1922–1929) откроет для бывших футуристов новые горизонты. В него вошли не только писатели и художники, но и кинематографисты (Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Григорий Козинцев, Леонид Трауберг). Казалось, что это может способствовать сближению художников-авангардистов с новой властью. Однако лефовцы не смогли соперничать со своими оппонентами-марксистами из Пролеткульта.
В Пролеткульт входили авторы, которые развивали и усваивали достижения футуризма, откликаясь на них. Одним из таких авторов был идеолог пролетарской поэзии Алексей Гастев. В 1920-е годы на сцену вышло новое поколение поэтов, которые так или иначе наследовали футуристам. Среди них были конструктивисты, такие как Илья Сельвинский и Эдуард Багрицкий, — своего рода официальные наследники и в то же время оппоненты футуристов.
На какое-то время появилась надежда, что объединение «Левый фронт искусств» (1922–1929) откроет для бывших футуристов новые горизонты. В него вошли не только писатели и художники, но и кинематографисты (Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Григорий Козинцев, Леонид Трауберг). Казалось, что это может способствовать сближению художников-авангардистов с новой властью. Однако лефовцы не смогли соперничать со своими оппонентами-марксистами из Пролеткульта.
В Пролеткульт входили авторы, которые развивали и усваивали достижения футуризма, откликаясь на них. Одним из таких авторов был идеолог пролетарской поэзии Алексей Гастев. В 1920-е годы на сцену вышло новое поколение поэтов, которые так или иначе наследовали футуристам. Среди них были конструктивисты, такие как Илья Сельвинский и Эдуард Багрицкий, — своего рода официальные наследники и в то же время оппоненты футуристов.
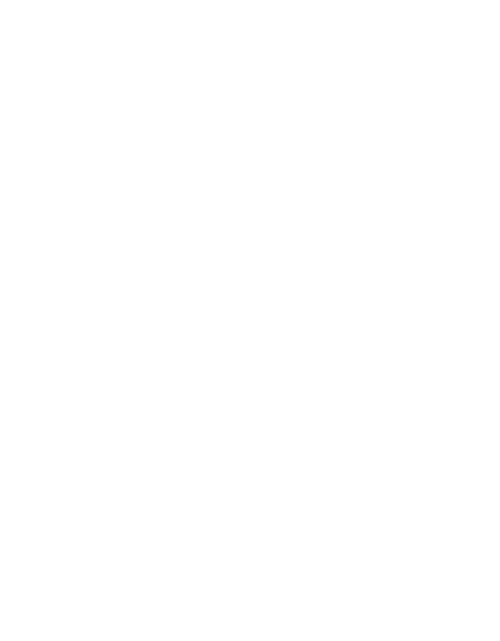
Илья Сельвинский
Сельвинский охарактеризовал свою школу как «отряд, который враждовал» с Маяковским — это заявление прозвучало после самоубийства поэта в 1930 году. В 1935 году благодаря усилиям Лили Брик, которая обратилась с письмом к Сталину, Маяковский был провозглашён «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». По словам Пастернака, «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен». Эта канонизация стала защитой и для поэтов «круга Маяковского», включая Хлебникова и лефовцев — Асеева, Кирсанова и других. При иных обстоятельствах русский футуризм мог быть надолго забыт, но теперь он стал официальной историей левого искусства и неизбежно «забронзовел». Живой неофутуризм в советской печати возродился только в годы оттепели, когда начали публиковаться авторы вроде Андрея Вознесенского и Виктора Сосноры.
С другой стороны, опыт футуристов, особенно зауми Крученых и эзотерики Хлебникова, имел огромное значение для андеграунда, который появился в конце 1920-х годов — для будущих обэриутов Хармса и Введенского.
С другой стороны, опыт футуристов, особенно зауми Крученых и эзотерики Хлебникова, имел огромное значение для андеграунда, который появился в конце 1920-х годов — для будущих обэриутов Хармса и Введенского.
Владимир Сысков. Иллюстрация к стихотворениям Игоря Северянина (фрагмент). Из серии «Поэты Серебряного века». 1991
Мария Синякова. Владимир Маяковский и Давид Бурлюк на Сретенском бульваре в Москве в 1911 году (фрагмент). 1940
Иллюстрация к поэме Н.Н. Асеева «Маяковский начинается»/ Владимир Маяковский. 1950. Синякова М.М.
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Краткая история футуризма:
- Футуристы совершили грандиозную языковую революцию в русской поэзии.
- В первые годы существования движения преобладали коллективные сборники.
- Важны были знаковые сборники-декларации, такие как «Садок судей» и «Пощёчина общественному вкусу».
- Для футуристов важнее всего были живопись и другие изобразительные искусства.
- Крупнейшие поэты-футуристы были профессиональными художниками.
- Футуристы активно участвовали в авангардных художественных объединениях.
- Футуризм был максимально разнороден, преодолевая границы групп.
- Среди футуристов были апологеты «заумного» языка и поэты, экспериментирующие с ритмом.
- Футуристы были как «громкими», так и «тихими», ориентированными на интроспекцию.
- Между футуристами разгорались конфликты, но они иногда объединялись.
- Футуристы эпатировали названиями сборников и альманахов.
- Филологические и лингвистические принципы.
Характерные черты футуризма
- Бунтарство, анархичность мировоззрения, выражение массовых настроений толпы.
- Отрицание культурных традиций, попытка создать искусство, устремленное в будущее.
- Бунт против привычных норм стихотворной речи, экспериментаторство в области ритмики, рифмы, ориентация на произносимый стих, лозунг, плакат.
- Поиски раскрепощенного «самовитого» слова, эксперименты по созданию «заумного» языка.
- Культ техники, индустриальных городов.
- Пафос эпатажа.
- Отказ от грамматических правил, акцент на начертательной и фонической характеристике слов.
- Осознание роли приставок и суффиксов.
- Отрицание правописания, использование различных частей речи и чисел.
- Уничтожение знаков препинания, выдвижение роли словесной массы.
- Понимание гласных как времени и пространства, согласных как краски, звука и запаха.
- Отказ от ритмов, разработка новых поэтических размеров.
- Разработка новых рифм: передняя, средняя, обратная.
- Богатство словаря как оправдание поэта.
- Слово как творец мифа, умирающее слово рождает миф.
- Новые темы: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности.
- Презрение к славе, акцент на чувствах, не живших до них.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Бобринская, Е. А. Футуризм. — М., 2000.
Бирюков, С. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. — М., 1994.
Бирюков, С. Поэзия русского авангарда. — М., 2001.
Васильев, И. Русский поэтический авангард XX века. — Екатеринбург, 1999.
Зданевич, И. М. Футуризм и всёчество, 1912–1914. — Москва : Гилея, 2014.
Кручёных, А. Е. К истории русского футуризма: воспоминания и документы. — Москва : Гилея, 2006.
Бирюков, С. Зевгма. Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. — М., 1994.
Бирюков, С. Поэзия русского авангарда. — М., 2001.
Васильев, И. Русский поэтический авангард XX века. — Екатеринбург, 1999.
Зданевич, И. М. Футуризм и всёчество, 1912–1914. — Москва : Гилея, 2014.
Кручёных, А. Е. К истории русского футуризма: воспоминания и документы. — Москва : Гилея, 2006.
ЧТО ПОЧИТАТЬ?
СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ-АКМЕИСТОВ
В. Маяковский: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Вам!», «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Про это».
В. Хлебников: «Заклятие смехом», «Кузнечик», «Бобэоби пелись губы…», «Времена», «О, закрой свои бледные ноги», «Когда умирают кони — дышат…», «Мы желаем звездам тыкать…».
И. Северянин: «Ананасы в шампанском», «Мои читатели», «Эпилог», «Вербная суббота», «Хризантемы», «Увертюра», «Элегантная коляска».
А. Крученых: «Дыр бул щыл», «Взорваль», «Сено сои», «Плач», «Старинная любовь», «Помада», «Я иду».
Е. Гуро: «Памяти Марины Цветаевой», «Шарманка», «Небесные верблюжата», «Как тяжело земное бремя…», «Ты спишь, моё сокровище…», «Мне снилось: мы нашли приют…», «Опять весна».
В. Хлебников: «Заклятие смехом», «Кузнечик», «Бобэоби пелись губы…», «Времена», «О, закрой свои бледные ноги», «Когда умирают кони — дышат…», «Мы желаем звездам тыкать…».
И. Северянин: «Ананасы в шампанском», «Мои читатели», «Эпилог», «Вербная суббота», «Хризантемы», «Увертюра», «Элегантная коляска».
А. Крученых: «Дыр бул щыл», «Взорваль», «Сено сои», «Плач», «Старинная любовь», «Помада», «Я иду».
Е. Гуро: «Памяти Марины Цветаевой», «Шарманка», «Небесные верблюжата», «Как тяжело земное бремя…», «Ты спишь, моё сокровище…», «Мне снилось: мы нашли приют…», «Опять весна».
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ
Мы верим, что после прочтения статьи и предложенных рекомендаций у Вас получится пройти наш легкий и короткий тест. Давайте же!
Тест: 5 вопросов
Футуризм
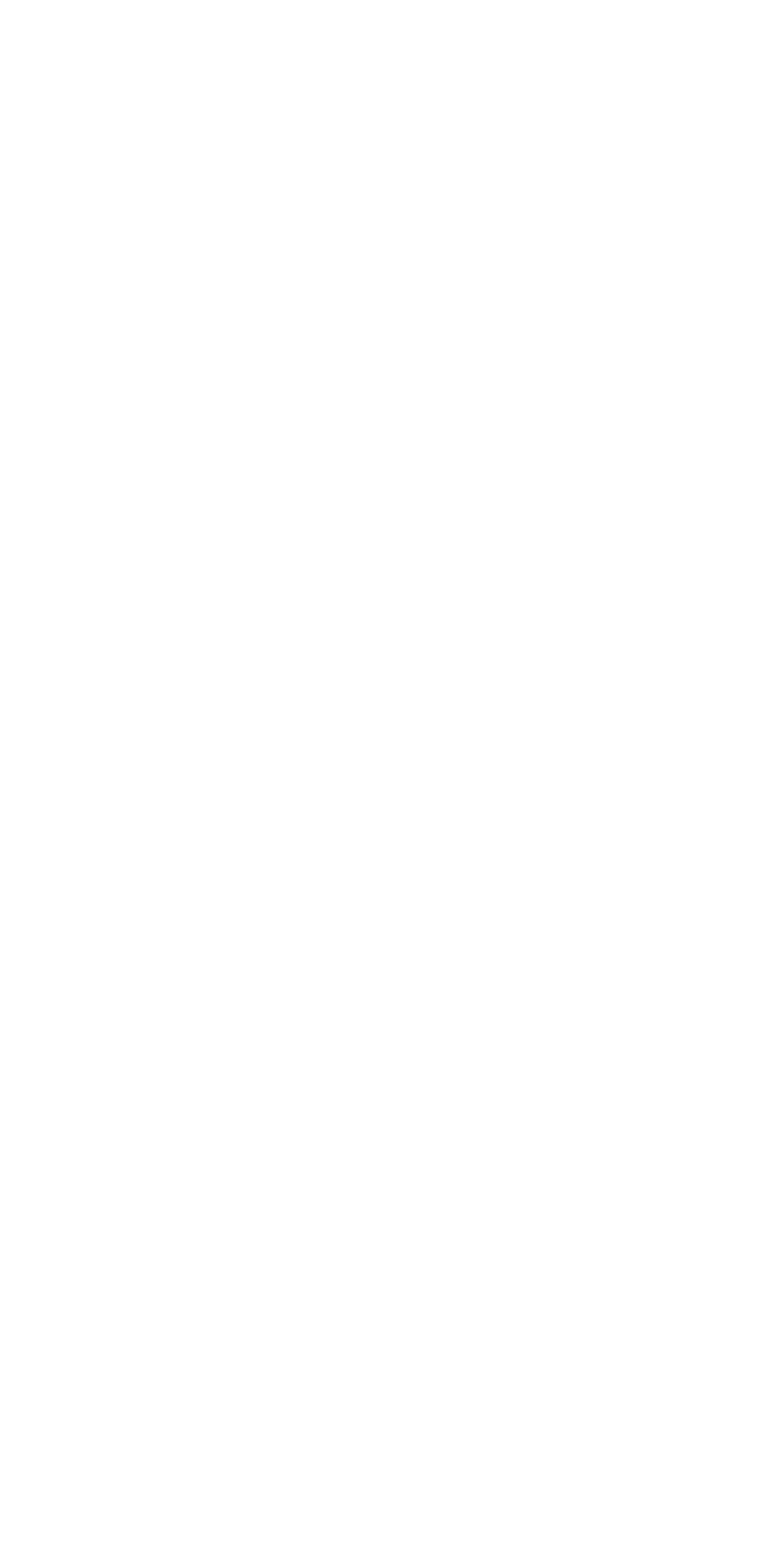
Проверьте свои знания и выясните, насколько хорошо вы знаете историю поэтического течения футуризм. Можете ли вы ответить на эти вопросы?
| Пройти тест |
Начнем с легкого. В какой стране зародилось течение футуризма?
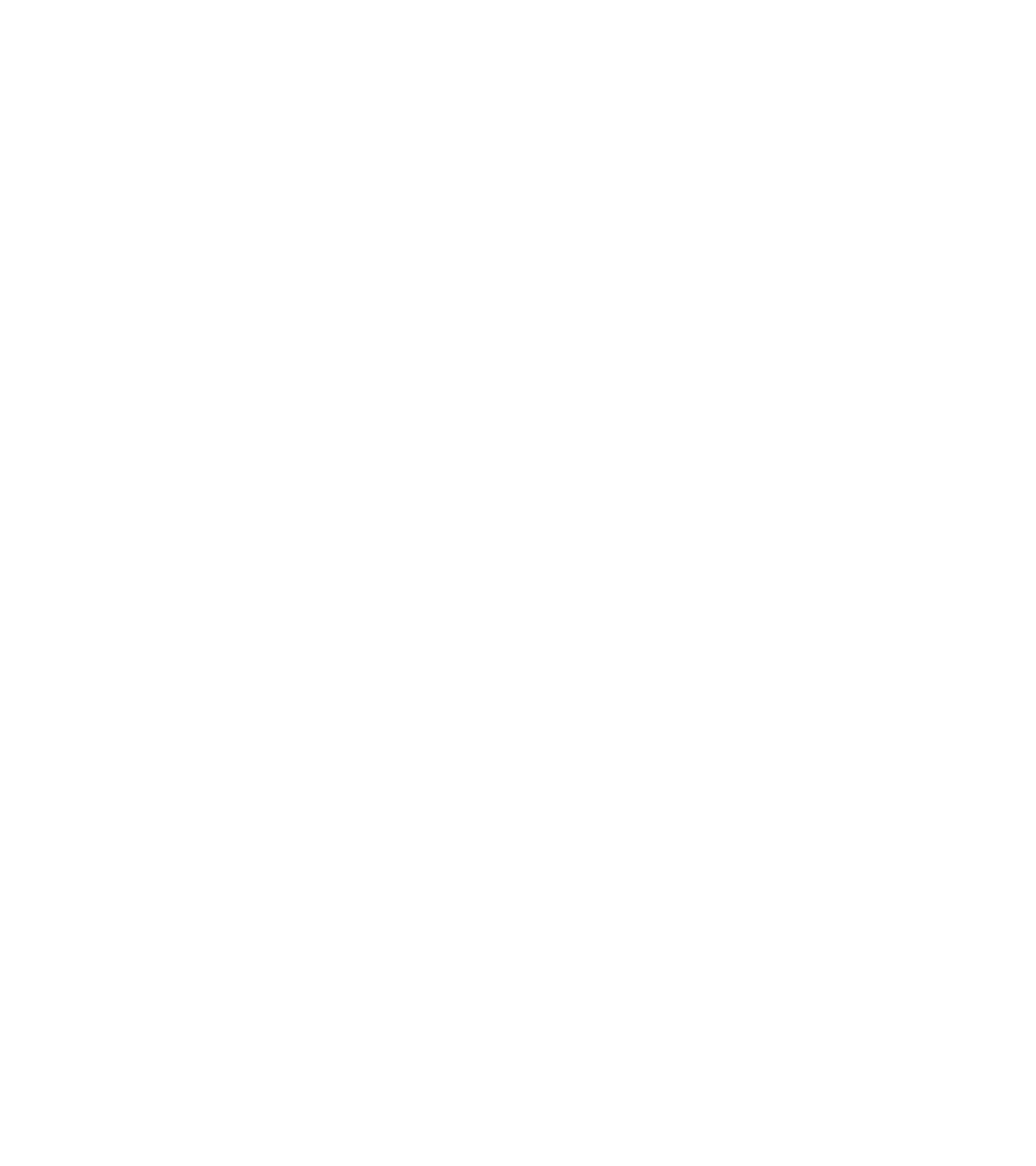
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
В каком году Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал «Первый манифест футуризма»?
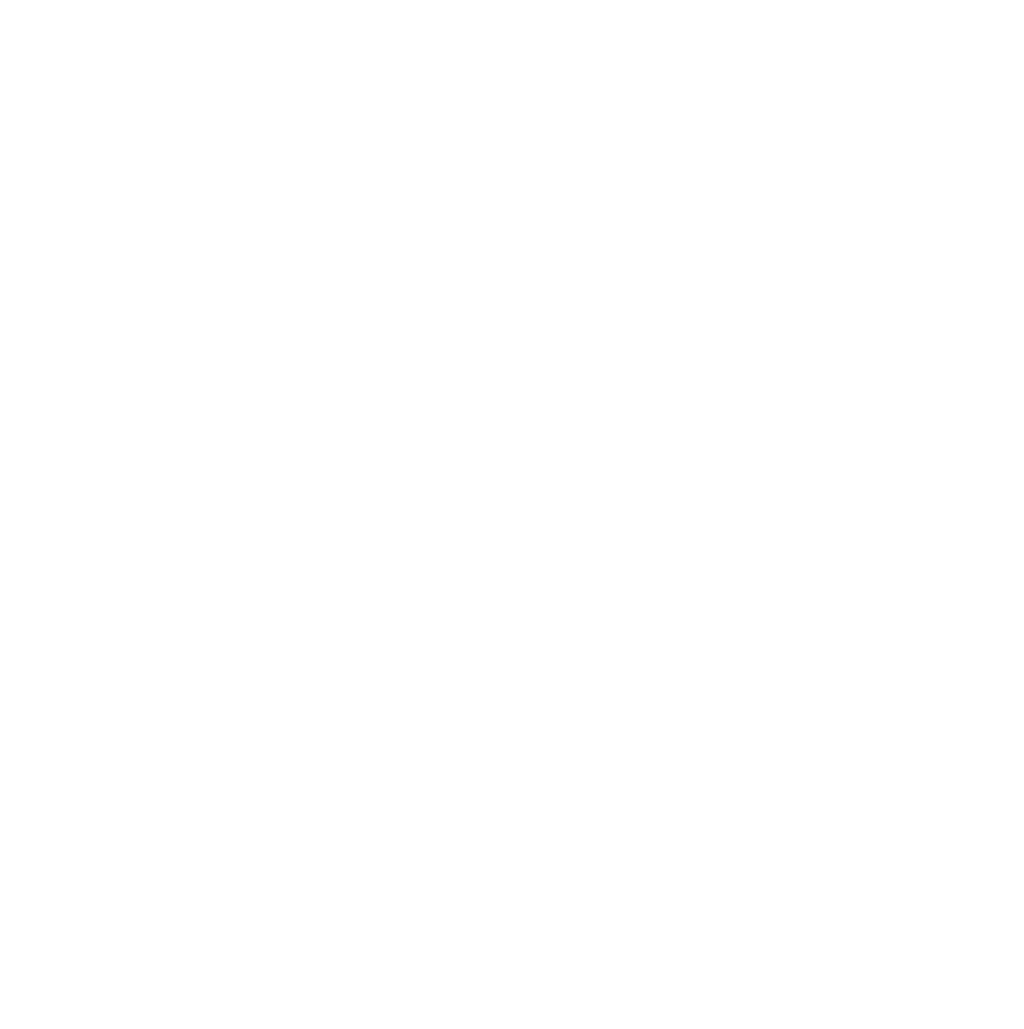
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Выберите поэтов, принадлежащих к группе футуристов
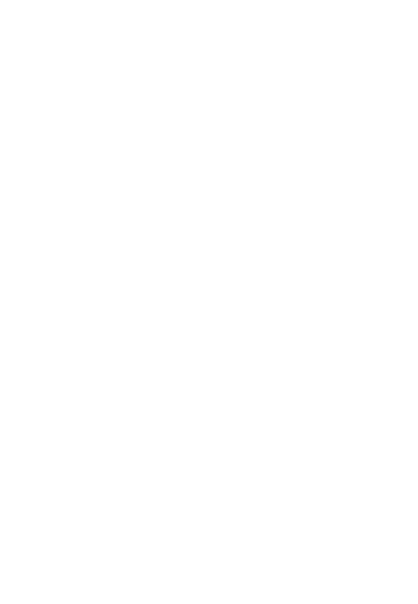
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Верно! Вы точно не подсматривали?
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
А теперь сложнее. Отметьте литературные группы футуристов
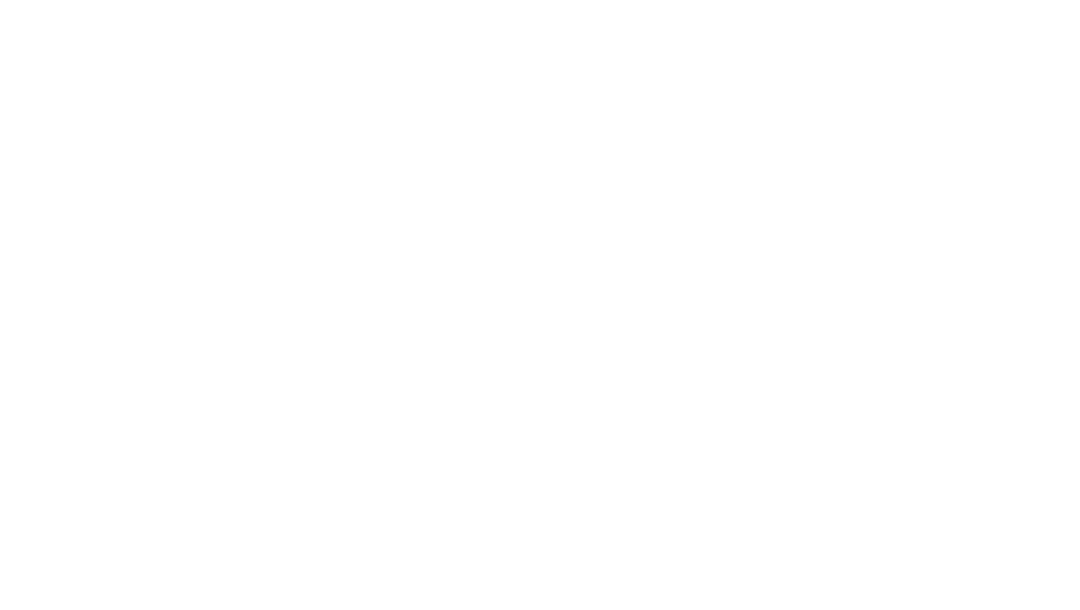
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
И последний вопрос. Кого считали необходимым сбросить с «парохода современности» поэты-футуристы?
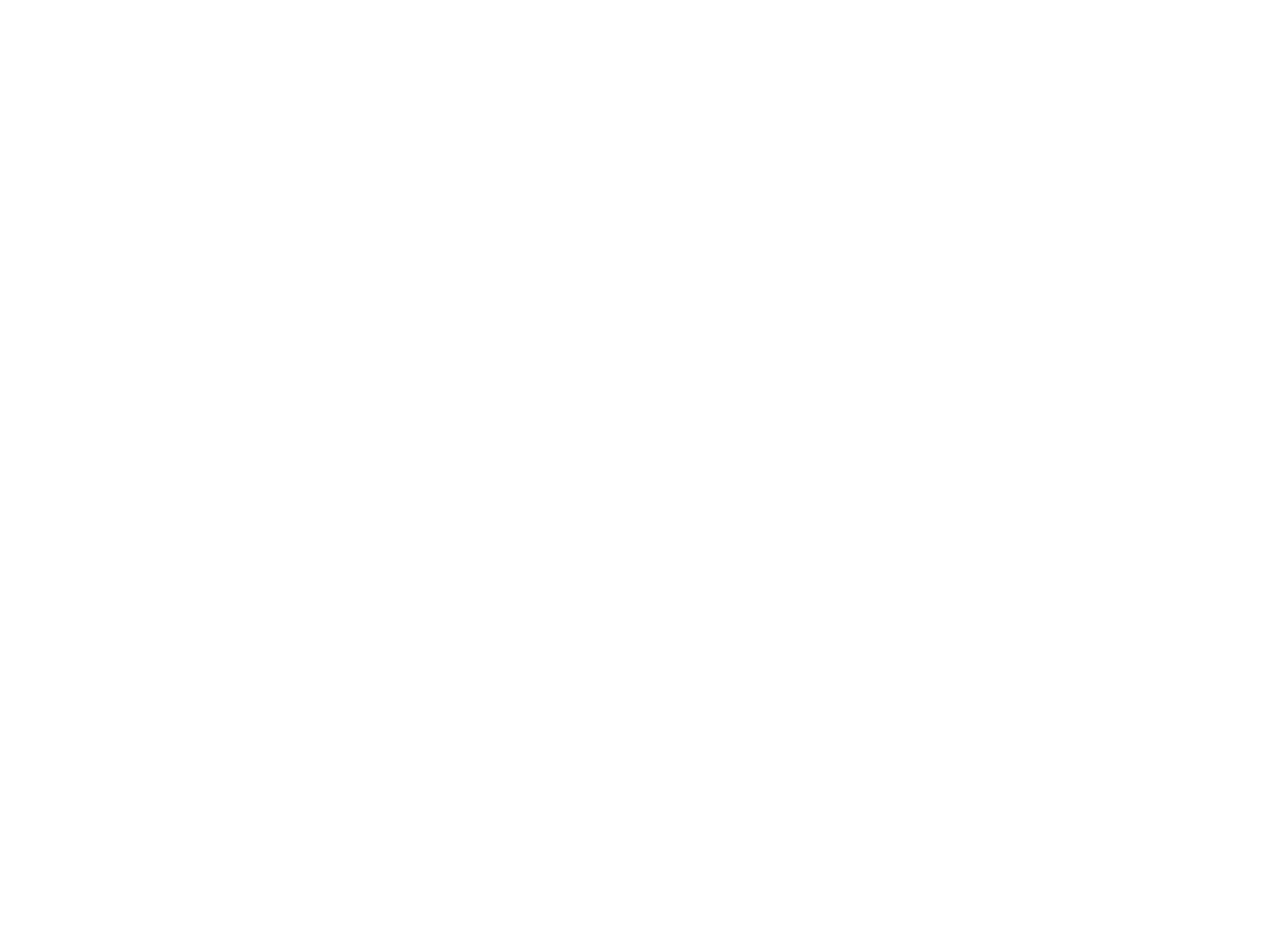
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Ой...
Возможно, стоит прочитать лекцию еще раз.
| Пройти еще раз |
Ничего страшного
По крайней мере, что-то вы точно знаете.
| Пройти еще раз |
Неплохо
Еще немного усилий, и все получится!
| Пройти еще раз |
Хорошо!
Ваши результаты не могут не радовать!
| Пройти еще раз |
Отлично!
Ответили на все вопросы идеально? Мы в вас не сомневались!
| Пройти еще раз |
»