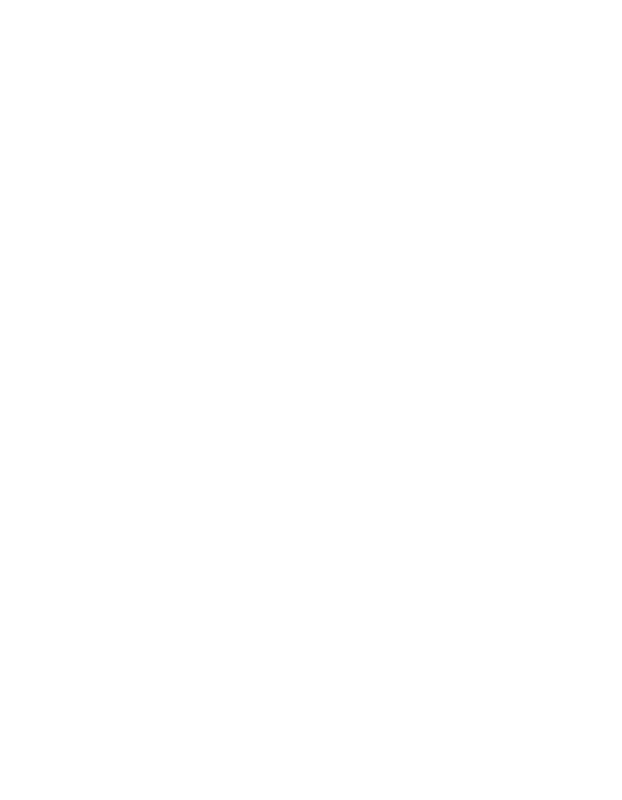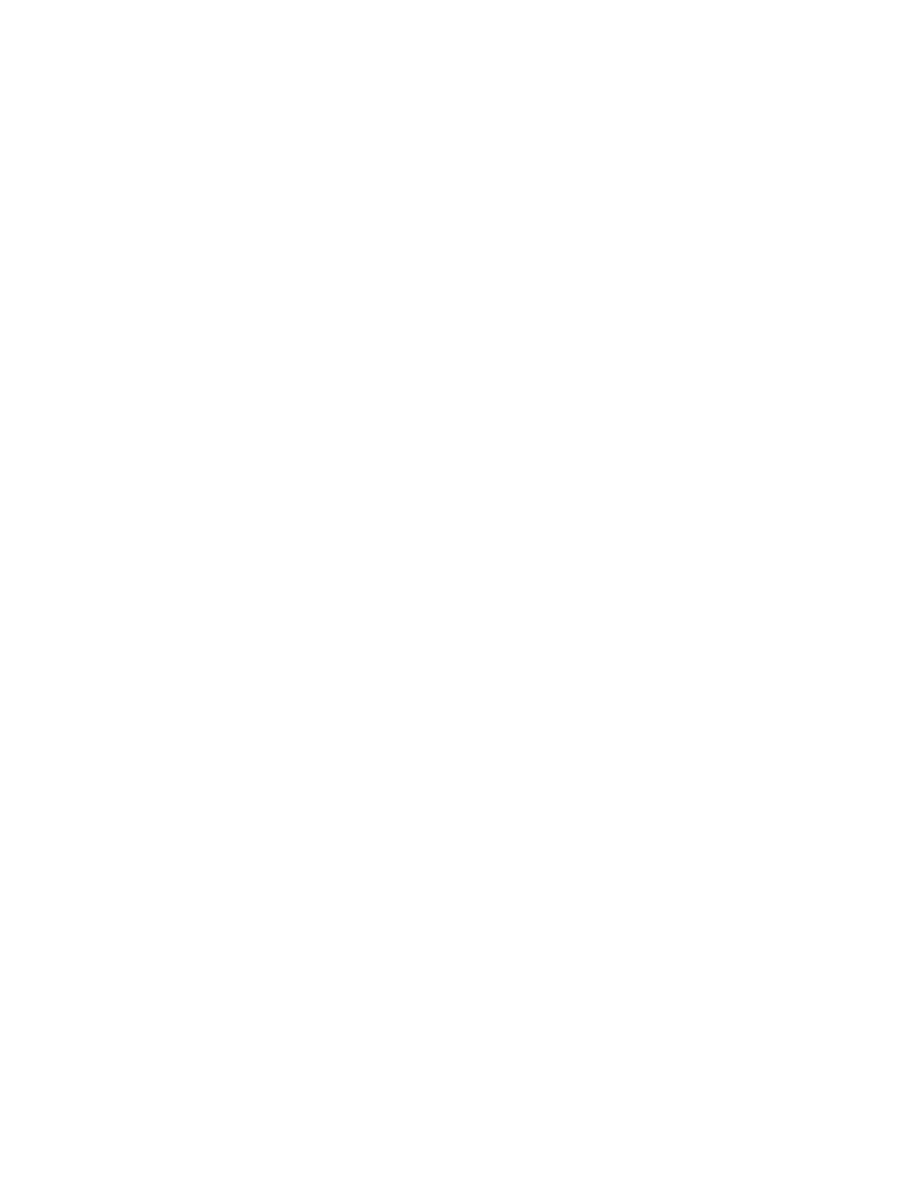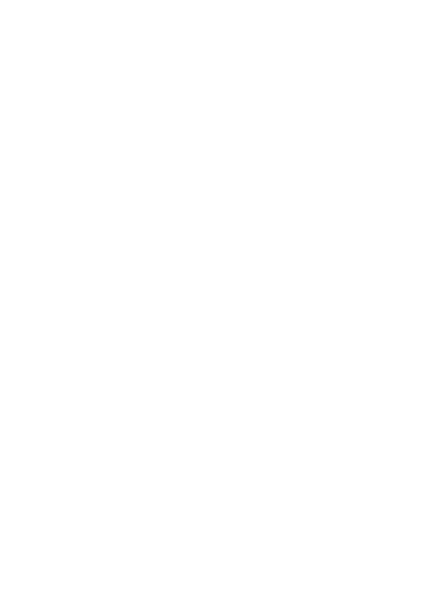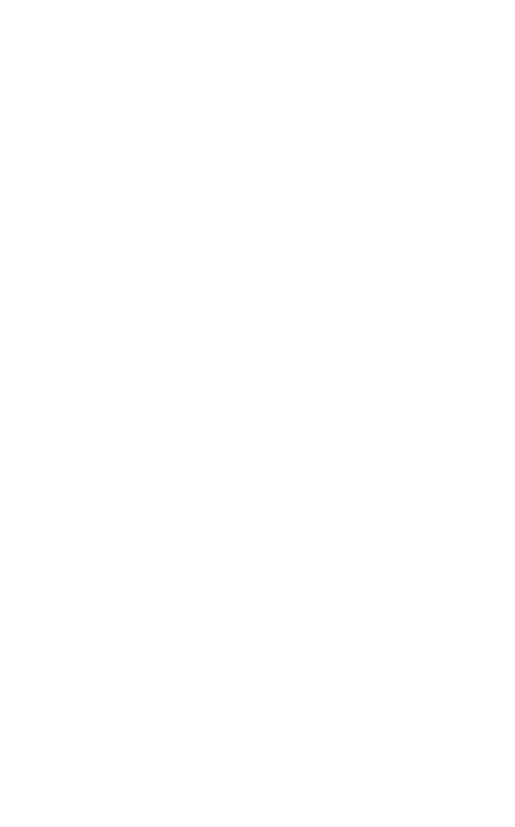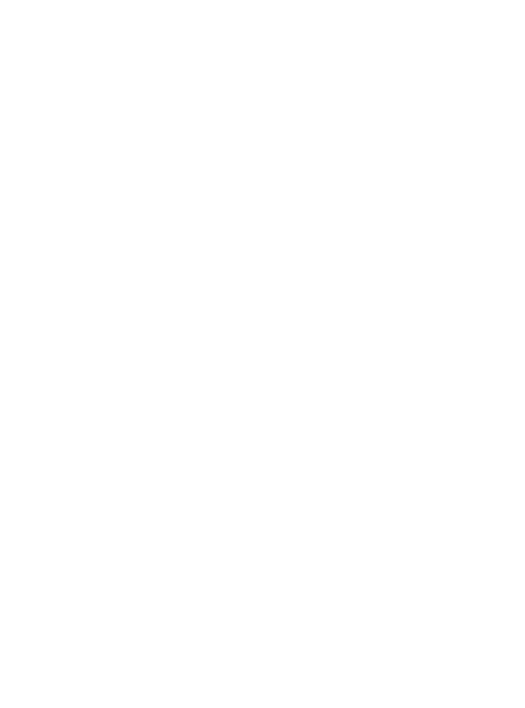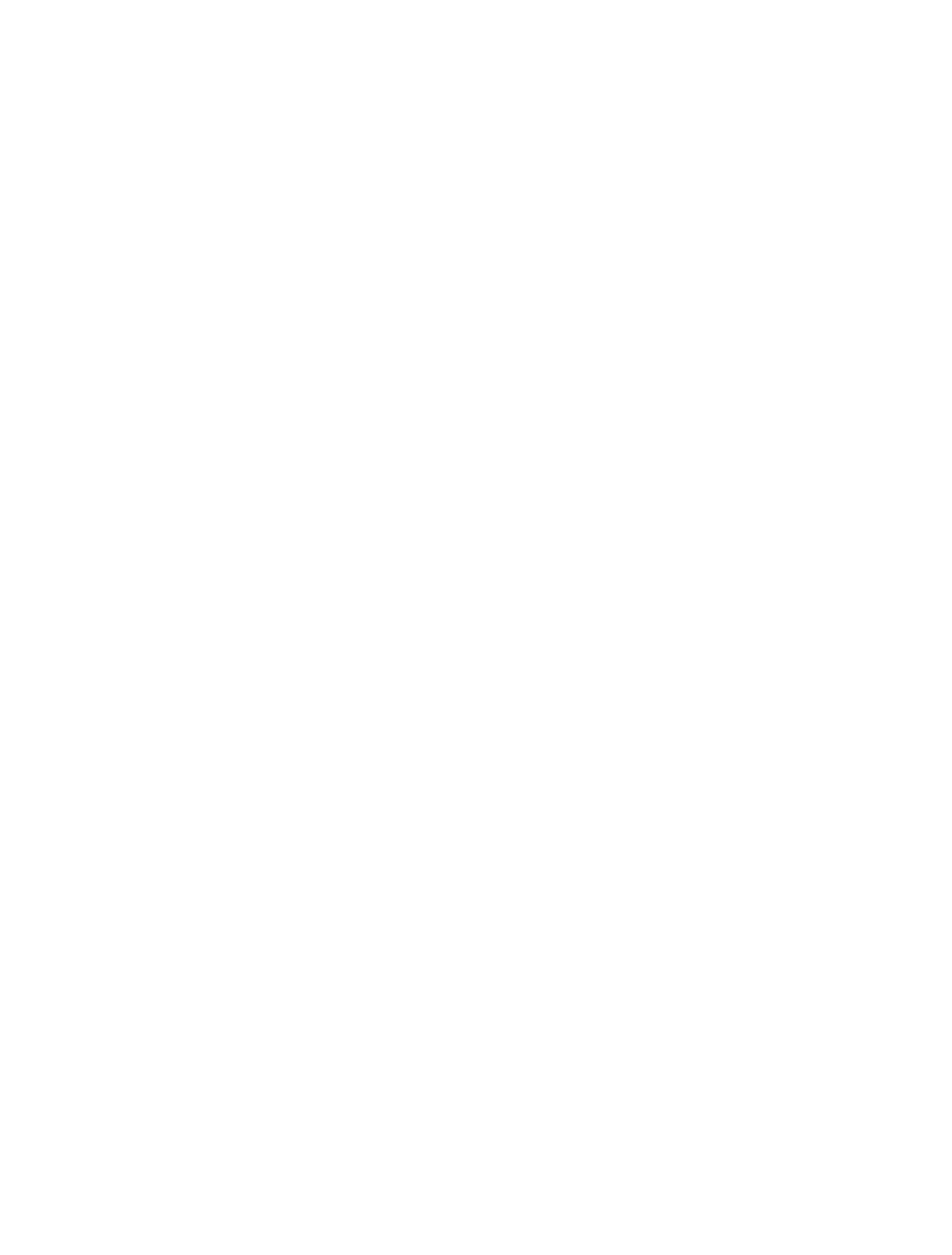Лекция Вторая
Преакмеизм и акмеизм
Мы продолжаем цикл лекций о поэзии Серебряного века. В этот раз мы поговорим об акмеистах - смелых и отчаянных новаторах, которые были приемниками символистов, постоянно вступали в полемики с коллегами, продвигали идеи вещного мира и важности поэтического мастерства.
ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ
Что было после символизма?
Акмеизм— русское литературное движение начала XX века. Акмеизм пришёл на смену символизму, в его основе – ясность мысли и точность выражений.
Поэтов, пришедших после символистов, традиционно называли постсимволистами. Постсимволизм не представляет собой единого литературного течения. Под этим термином подразумеваются как прямые оппоненты символистов — акмеисты и футуристы, так и поэты, которые не принадлежали к этим направлениям, но также развивались вне рамок символизма, например, Марина Цветаева, Владислав Ходасевич, Сергей Есенин и другие. Группа имажинистов, к которой присоединился Есенин, появилась после Октябрьской революции в 1919 году, когда Есенин уже сформировался как самобытный поэт, и едва ли может считаться полноценной литературной школой. В этой лекции мы рассмотрим именно акмеизм как течение, формирование которой пришлось на конкретную дату — 20 октября 1911 года.
Изображение: Александр Неумывакин. Посвящение Осипу Мандельштаму (фрагмент). 1990. Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого, Севастополь
В начале 1910-х годов символизм, который ещё недавно был ведущим литературным направлением, переживал кризис. Александр Блок в предисловии к поэме «Возмездие» перечисляет события, благодаря которым начало 1910-х годов воспринималось современниками как рубеж.
1910 год — это смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий — вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность — мудрая человечность.
Далее, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма.
Далее, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма.
- Сергей Городецкий
- Николай Гумилев
- Анна Ахматова
Не надо нам земли чужой,
Свою мы создаем, —
И одарил ее водой
Могучий водоем.
Не засуху, не недород,
Не раскаленный прах —
Благоухание несет
Здесь ветер на крылах.
Не будет больше черных бурь,
Губящих как самум,
Увидит свежую лазурь
Пустыня Кара-Кум.
И дети, ясным вечерком
В тени гоня овец,
Уже не ведают, о чем
Печально пел отец…
Но что в моей стране труда
Теперь произошло,
То лучезарным навсегда
В историю вошло.
— Анна Ахматова
Свою мы создаем, —
И одарил ее водой
Могучий водоем.
Не засуху, не недород,
Не раскаленный прах —
Благоухание несет
Здесь ветер на крылах.
Не будет больше черных бурь,
Губящих как самум,
Увидит свежую лазурь
Пустыня Кара-Кум.
И дети, ясным вечерком
В тени гоня овец,
Уже не ведают, о чем
Печально пел отец…
Но что в моей стране труда
Теперь произошло,
То лучезарным навсегда
В историю вошло.
— Анна Ахматова
В конце 1909 года два ключевых символистских журнала — «Весы» и «Золотое руно» — закрылись одновременно. К тому моменту яркие и вызывающие дебюты символистов остались в прошлом, и они утвердились как значимые фигуры в литературной сфере, став мэтрами. Их произведения охотно публиковали журналы различных направлений, и потребность в специализированных символистских изданиях отпала.
В 1909 году на смену журналам «Весы» и «Золотое руно» пришёл «Аполлон». Как и «Мир искусства» в свое время, он объединил писателей и художников. В редакции устраивали литературные и музыкальные вечера, где выступали Александр Скрябин, Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский, а также проводились художественные выставки. Среди организаторов были бывшие участники «Мира искусства» — Александр Бенуа и Леон Бакст. «Аполлон» отличался тем, что публиковал не только символистов, но и молодых авторов из новых литературных школ.
Символизм продолжал существовать: в те годы появились такие выдающиеся произведения, как роман Андрея Белого «Петербург», драма Блока «Роза и Крест» и его стихотворный цикл «Кармен». Однако художники-символисты уже не ограничивались узким кругом единомышленников, каждый из них шёл своим путём в общем литературном движении эпохи.
В 1909 году на смену журналам «Весы» и «Золотое руно» пришёл «Аполлон». Как и «Мир искусства» в свое время, он объединил писателей и художников. В редакции устраивали литературные и музыкальные вечера, где выступали Александр Скрябин, Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский, а также проводились художественные выставки. Среди организаторов были бывшие участники «Мира искусства» — Александр Бенуа и Леон Бакст. «Аполлон» отличался тем, что публиковал не только символистов, но и молодых авторов из новых литературных школ.
Символизм продолжал существовать: в те годы появились такие выдающиеся произведения, как роман Андрея Белого «Петербург», драма Блока «Роза и Крест» и его стихотворный цикл «Кармен». Однако художники-символисты уже не ограничивались узким кругом единомышленников, каждый из них шёл своим путём в общем литературном движении эпохи.
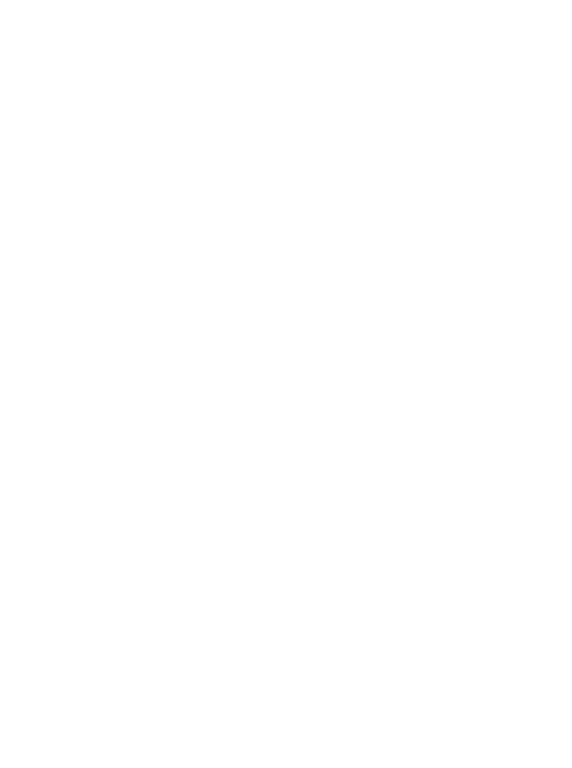
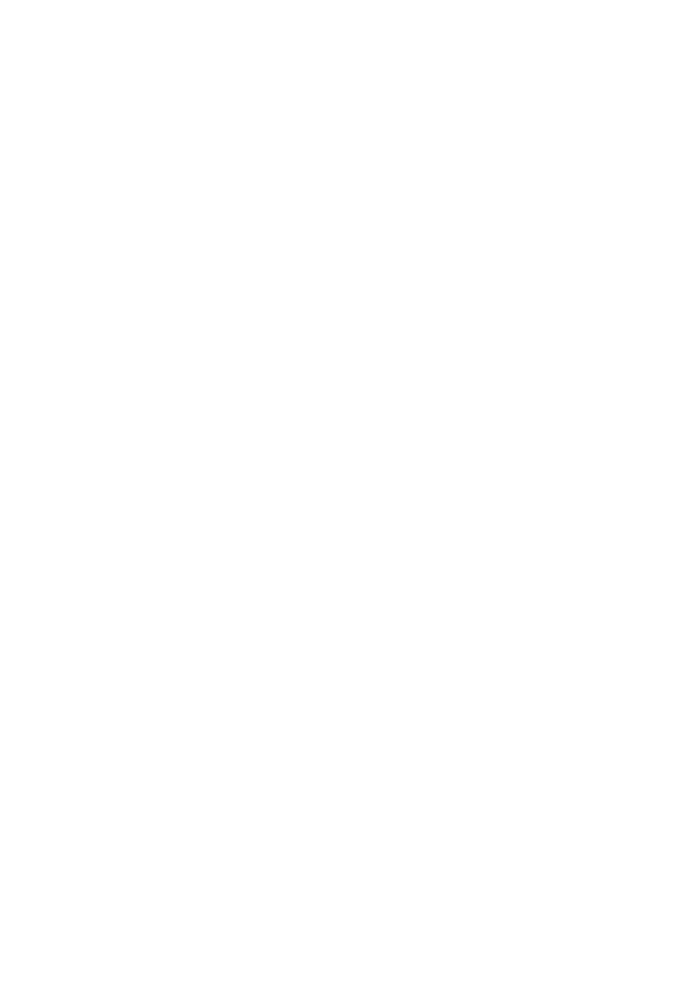
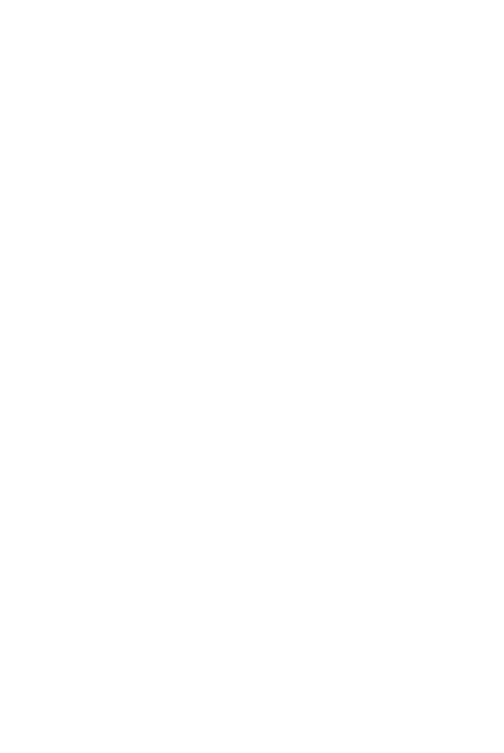
Литературные авторитеты постепенно пересматривались. Неожиданно для многих самым уважаемым поэтом среди молодежи стал Иннокентий Анненский, который лишь в конце жизни получил истинное признание (он скоропостижно скончался от сердечного приступа в 1909 году). Ахматова, Гумилев и другие поэты их круга считали Анненского своим учителем, а его сборники «Тихие песни» и посмертно вышедший «Кипарисовый ларец» стали для них настольными книгами.
Весной 1909 года на «башне» Вячеслава Иванова начались занятия по стихосложению. Однако уже осенью их перенесли в помещение редакции журнала «Аполлон» и назвали Поэтической академией (Обществом ревнителей художественного слова).
В заседаниях участвовали Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов, Андрей Белый и другие мэтры символизма. Они не только читали лекции о метрике, инструментовке стиха и рифмовке, но и анализировали произведения молодых поэтов, указывая на их формальные ошибки и удачные находки.
Некоторые заседания проходили в форме диспутов, но участвовали в них только «мэтры». Как вспоминал один из участников Поэтической академии Владимир Пяст, молодежь при этом «играла роль хора, вопреки обычаю греческих трагедий, безмолвного и безгласного».
В заседаниях участвовали Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов, Андрей Белый и другие мэтры символизма. Они не только читали лекции о метрике, инструментовке стиха и рифмовке, но и анализировали произведения молодых поэтов, указывая на их формальные ошибки и удачные находки.
Некоторые заседания проходили в форме диспутов, но участвовали в них только «мэтры». Как вспоминал один из участников Поэтической академии Владимир Пяст, молодежь при этом «играла роль хора, вопреки обычаю греческих трагедий, безмолвного и безгласного».
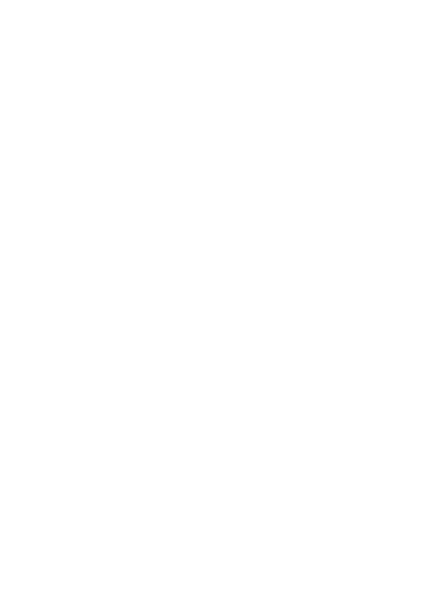
Иннокентий Анненский
Должно быть, жизнь переломилась,
И полпути уж пройдено,
Все то, что было, с тем, что снилось,
Соединилося в одно.
Но словно отблеск предрассветный
На вешних маковках ракит,
Какой-то свет, едва заметный,
На жизни будущей лежит.
— Сергей Городецкий
И полпути уж пройдено,
Все то, что было, с тем, что снилось,
Соединилося в одно.
Но словно отблеск предрассветный
На вешних маковках ракит,
Какой-то свет, едва заметный,
На жизни будущей лежит.
— Сергей Городецкий
Спустя некоторое время роль пассивных слушателей перестала удовлетворять молодых поэтов. 20 октября 1911 года под руководством Николая Гумилева и Сергея Городецкого было создано собственное объединение — «Цех поэтов». Название, отсылающее к средневековым цехам мастеров, подчёркивало внимание к вопросам профессионального мастерства и поэтической техники. Гумилев и Городецкий были названы синдиками — по аналогии с руководителями средневековых цехов.
В новое объединение вошли Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Михаил Зенкевич — они стали ядром новой поэтической школы, акмеистов. Заседания посещали и другие авторы: Михаил Лозинский (будущий переводчик Шекспира и Данте), Василий Комаровский, Георгий Иванов, Георгий Адамович, крестьянский поэт Николай Клюев, будущие футуристы Велимир Хлебников, Николай Бурлюк и другие. Однако не всех из них можно причислять к акмеизму.
Участники «Цеха» публиковались в «Аполлоне», а также в своем журнале — небольшом издании «Гиперборей» (1912–1913). В конце 1900-х — начале 1910-х годов они заявили о себе и первыми поэтическими сборниками: «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908), «Чужое небо» (1912) Гумилева, «Вечер» (1912), «Четки» (1914) Ахматовой, «Камень» (1913) Мандельштама.
В новое объединение вошли Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Михаил Зенкевич — они стали ядром новой поэтической школы, акмеистов. Заседания посещали и другие авторы: Михаил Лозинский (будущий переводчик Шекспира и Данте), Василий Комаровский, Георгий Иванов, Георгий Адамович, крестьянский поэт Николай Клюев, будущие футуристы Велимир Хлебников, Николай Бурлюк и другие. Однако не всех из них можно причислять к акмеизму.
Участники «Цеха» публиковались в «Аполлоне», а также в своем журнале — небольшом издании «Гиперборей» (1912–1913). В конце 1900-х — начале 1910-х годов они заявили о себе и первыми поэтическими сборниками: «Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цветы» (1908), «Чужое небо» (1912) Гумилева, «Вечер» (1912), «Четки» (1914) Ахматовой, «Камень» (1913) Мандельштама.
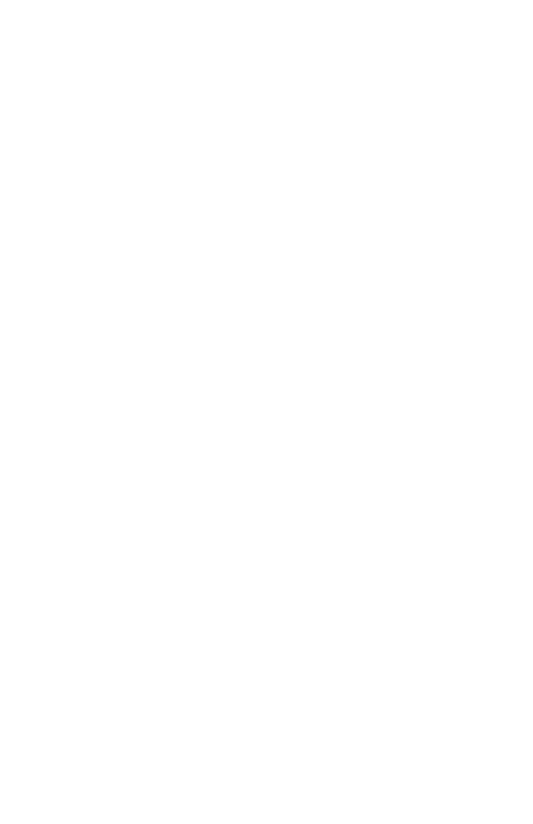
Журнал «Гиперборей», 1913
Поначалу заседания «Цеха поэтов» напоминали встречи в Поэтической академии: участники читали свои стихи и разбирали их по кругу. Только теперь роль мэтров брали на себя сами молодые поэты.
Как вспоминала Анна Ахматова, уже на четвертом или пятом заседании заговорили о том, что нужно отделиться от символизма, поднять новое поэтическое знамя и дать название новому направлению. Было предложено два варианта: «акмеизм» — от греческого слова «акме», означающего «вершина», «острие», «расцвет», и «адамизм» — от имени первого библейского человека, символизирующего мужественный и прямой взгляд на мир, как у первозданного Адама, дающего всему новые имена.
В 1913 году появились две статьи, которые стали манифестами нового направления. Первая — «Наследие символизма и акмеизм» — была написана Гумилевым, а вторая — «Некоторые течения в современной русской поэзии» — Городецким. В обоих манифестах утверждалось, что символизм «закончил свой круг развития и теперь падает». При этом новая поэтическая школа не объявляла себя врагом символизма, а подчёркивала свою преемственность.
Гумилев писал, что для того, чтобы новое течение утвердило себя и стало достойным преемником предшествующего, оно должно принять его наследство и ответить на все поставленные им вопросы. «Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом», — отмечал он.
Как вспоминала Анна Ахматова, уже на четвертом или пятом заседании заговорили о том, что нужно отделиться от символизма, поднять новое поэтическое знамя и дать название новому направлению. Было предложено два варианта: «акмеизм» — от греческого слова «акме», означающего «вершина», «острие», «расцвет», и «адамизм» — от имени первого библейского человека, символизирующего мужественный и прямой взгляд на мир, как у первозданного Адама, дающего всему новые имена.
В 1913 году появились две статьи, которые стали манифестами нового направления. Первая — «Наследие символизма и акмеизм» — была написана Гумилевым, а вторая — «Некоторые течения в современной русской поэзии» — Городецким. В обоих манифестах утверждалось, что символизм «закончил свой круг развития и теперь падает». При этом новая поэтическая школа не объявляла себя врагом символизма, а подчёркивала свою преемственность.
Гумилев писал, что для того, чтобы новое течение утвердило себя и стало достойным преемником предшествующего, оно должно принять его наследство и ответить на все поставленные им вопросы. «Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом», — отмечал он.
На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются страшным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.
Я была женой могучего вождя,
Дочерью властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала таинство обряда.
Говорили — на сто миль вокруг
Женщин не было меня светлее,
Я браслетов не снимала с рук.
И янтарь всегда висел на шее.
Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
И открылась в сердце дверца,
А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.
Он сказал мне, что едва ли
И во Франции видали
Обольстительней меня
И как только день растает,
Для двоих он оседлает
Берберийского коня.
Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
Плыл по сумрачным озерам
И достался смертным мукам;
Видел только день палящий
Труп свирепого бродяги,
Труп покрытого позором.
А на быстром и сильном верблюде,
Утопая в ласкающей груде
Шкур звериных и шелковых тканей,
Уносилась я птицей на север,
Я ломала мой редкостный веер,
Упиваясь восторгом заранее.
Раздвигала я гибкие складки
У моей разноцветной палатки
И, смеясь, наклоняясь в оконце,
Я смотрела, как прыгает солнце
В голубых глазах европейца.
А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я ненужно-скучная любовница,
Словно вещь, я брошена в Марселе.
Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтоб жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, смеясь, владеют мною.
Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает…
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.
— Николай Гумилев
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются страшным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.
Я была женой могучего вождя,
Дочерью властительного Чада,
Я одна во время зимнего дождя
Совершала таинство обряда.
Говорили — на сто миль вокруг
Женщин не было меня светлее,
Я браслетов не снимала с рук.
И янтарь всегда висел на шее.
Белый воин был так строен,
Губы красны, взор спокоен,
Он был истинным вождем;
И открылась в сердце дверца,
А когда нам шепчет сердце,
Мы не боремся, не ждем.
Он сказал мне, что едва ли
И во Франции видали
Обольстительней меня
И как только день растает,
Для двоих он оседлает
Берберийского коня.
Муж мой гнался с верным луком,
Пробегал лесные чащи,
Перепрыгивал овраги,
Плыл по сумрачным озерам
И достался смертным мукам;
Видел только день палящий
Труп свирепого бродяги,
Труп покрытого позором.
А на быстром и сильном верблюде,
Утопая в ласкающей груде
Шкур звериных и шелковых тканей,
Уносилась я птицей на север,
Я ломала мой редкостный веер,
Упиваясь восторгом заранее.
Раздвигала я гибкие складки
У моей разноцветной палатки
И, смеясь, наклоняясь в оконце,
Я смотрела, как прыгает солнце
В голубых глазах европейца.
А теперь, как мертвая смоковница,
У которой листья облетели,
Я ненужно-скучная любовница,
Словно вещь, я брошена в Марселе.
Чтоб питаться жалкими отбросами,
Чтоб жить, вечернею порою
Я пляшу пред пьяными матросами,
И они, смеясь, владеют мною.
Робкий ум мой обессилен бедами,
Взор мой с каждым часом угасает…
Умереть? Но там, в полях неведомых,
Там мой муж, он ждет и не прощает.
— Николай Гумилев
Осип Мандельштам
В манифестах нового направления были указаны аспекты символизма, которые не устраивали молодых поэтов. Акмеисты, в частности, выступали против склонности символистов к мистике и непознаваемому.
Гумилев отмечал: «…Непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать. <…> Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нём более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма».
Мандельштам в статье «О природе слова» высказывался более резко: «Русский лжесимволизм действительно лжесимволизм. Символисты открыли изначальную, образную природу слова, но затем запечатали все слова и образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь».
Гумилев отмечал: «…Непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать. <…> Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нём более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма».
Мандельштам в статье «О природе слова» высказывался более резко: «Русский лжесимволизм действительно лжесимволизм. Символисты открыли изначальную, образную природу слова, но затем запечатали все слова и образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь».
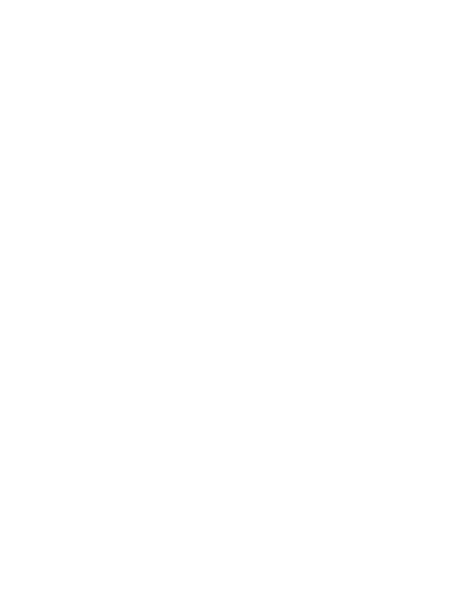
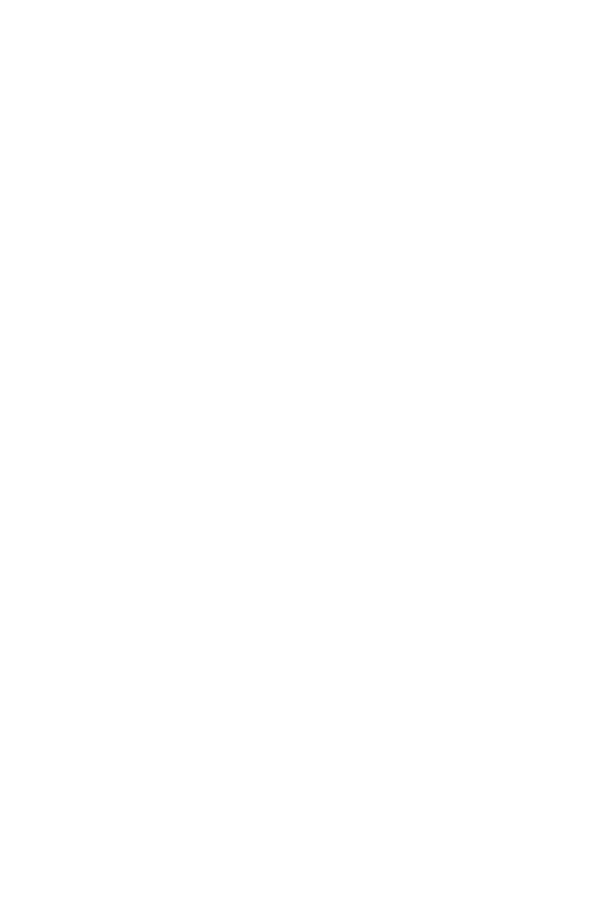
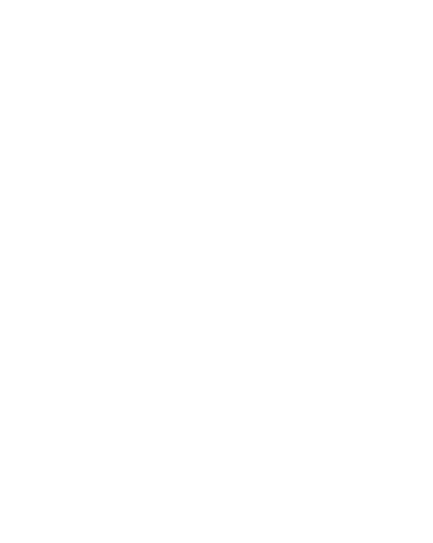
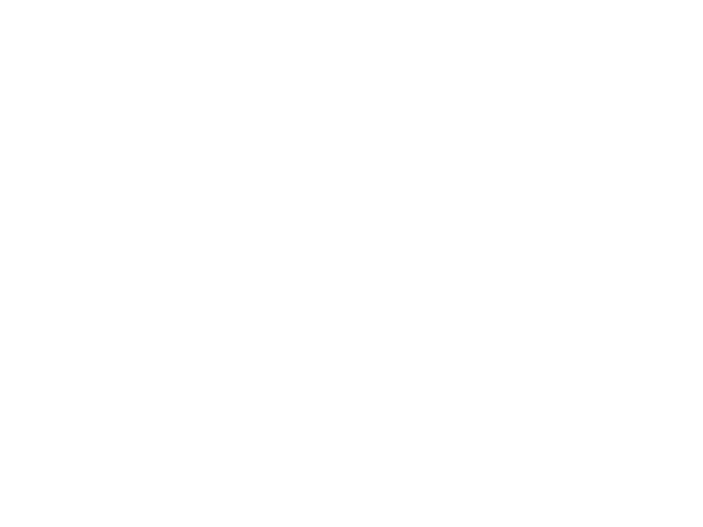
Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом, 1915 год
Мандельштам подчеркивает: «Как же быть с прикреплением слова к его значению; неужели это крепостная зависимость? Ведь слово не вещь. Его значимость — это не перевод самого слова. На самом деле никогда не было так, чтобы кто-нибудь крестил вещь, назвал ее придуманным именем».
Итак, еще одно различие между акмеистами и символистами — это отношение к внешнему миру и поэтическому слову. Для акмеистов внешний мир был не «тенью» и «отблеском» истинной духовной реальности, а самостоятельной ценностью.
Поэтическому слову возвращалось его прямое, предметное значение. Именно поэтому акмеисты придерживались «цеховой» идеологии, которая уделяла большое внимание формальному мастерству. В их поэзии, особенно у раннего Мандельштама, часто встречаются строительные и архитектурные метафоры.
Впрочем, и другие школы, о которых пойдет речь в следующих лекциях, также возвращали в поэзию предметность. Например, для футуристов, несмотря на их декларации «заумного языка», вещный мир был ничуть не менее важен.
Итак, еще одно различие между акмеистами и символистами — это отношение к внешнему миру и поэтическому слову. Для акмеистов внешний мир был не «тенью» и «отблеском» истинной духовной реальности, а самостоятельной ценностью.
Поэтическому слову возвращалось его прямое, предметное значение. Именно поэтому акмеисты придерживались «цеховой» идеологии, которая уделяла большое внимание формальному мастерству. В их поэзии, особенно у раннего Мандельштама, часто встречаются строительные и архитектурные метафоры.
Впрочем, и другие школы, о которых пойдет речь в следующих лекциях, также возвращали в поэзию предметность. Например, для футуристов, несмотря на их декларации «заумного языка», вещный мир был ничуть не менее важен.
Изображение: Наталья Третьякова. Ахматова и Модильяни у неоконченного портрета
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
— Осип Мандельштам
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
— Осип Мандельштам
Символисты не были готовы признать акмеистов своими преемниками, считая их скорее эпигонами, необоснованно претендующими на новаторство. Валерий Брюсов в статье «Вчера, сегодня и завтра нашей поэзии» отмечал, что акмеисты «не пошли дальше поднятия нового знамени, не отступив от принципов символизма в творчестве». В статье «Новые течения в русской поэзии» он даже усомнился в праве нового направления называться самостоятельной школой, заявив, что «акмеизм — это выдумка, прихоть, столичная причуда, и обсуждать его всерьез можно лишь из-за того, что под его сомнительное знамя встали несколько несомненно талантливых поэтов».
Еще более резко высказался Александр Блок в статье «Без божества, без вдохновенья…», отметив, что «Н. Гумилев и некоторые другие „акмеисты“, несомненно одарённые, погружают себя в холодное болото бездушных теорий и формализма; они спят непробудным сном без сновидений, не имеют и не желают иметь представления о русской жизни и жизни мира; в своей поэзии… они игнорируют самое главное, единственно ценное: душу».
Еще более резко высказался Александр Блок в статье «Без божества, без вдохновенья…», отметив, что «Н. Гумилев и некоторые другие „акмеисты“, несомненно одарённые, погружают себя в холодное болото бездушных теорий и формализма; они спят непробудным сном без сновидений, не имеют и не желают иметь представления о русской жизни и жизни мира; в своей поэзии… они игнорируют самое главное, единственно ценное: душу».
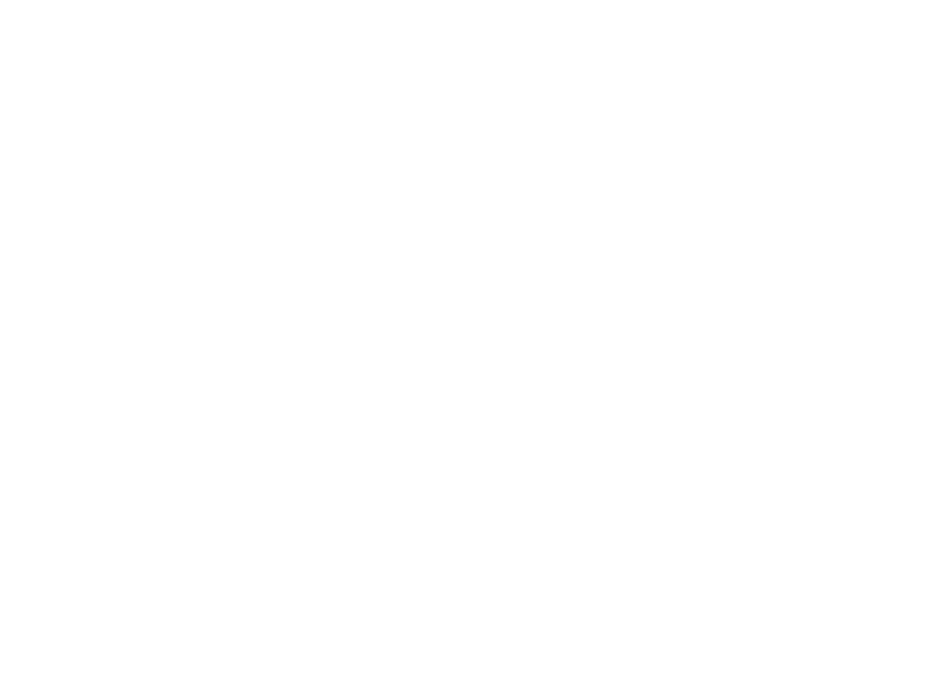
Похороны Александра
Блока в 1921 году
Блока в 1921 году
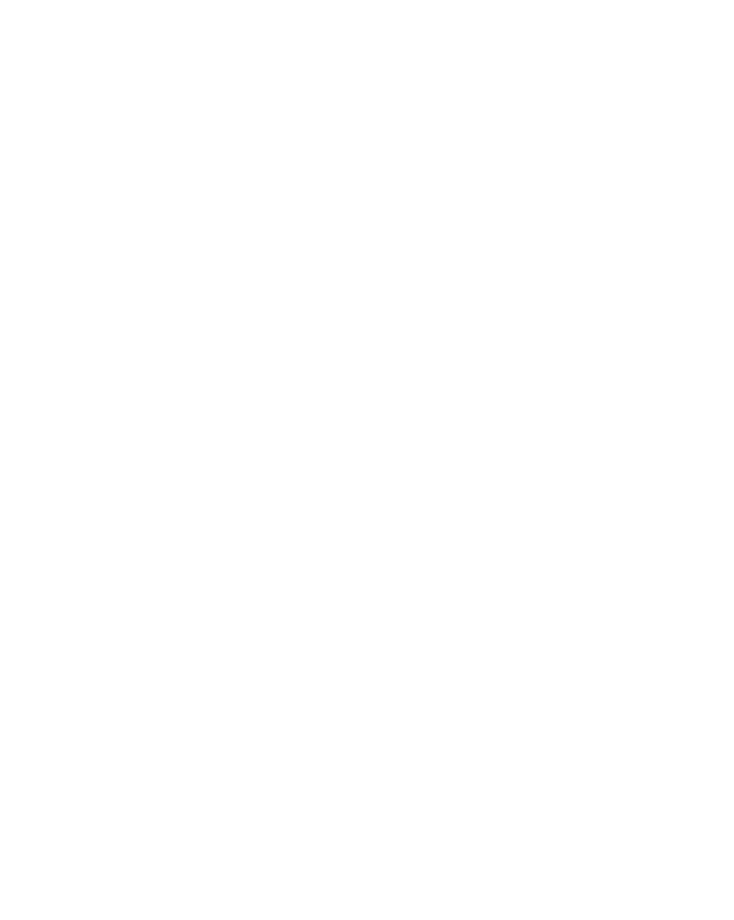
Кузьма Петров-Водкин. Портрет А.А. Ахматовой, 1922
«Цех поэтов» прекратил свое существование во время Первой мировой войны. Его пытались возродить дважды — в 1917 и 1921 годах. В это время ключевыми фигурами стали Георгий Иванов и Георгий Адамович, которых коллеги называли «Жоржиками». Сначала они были близкими друзьями, а затем, уже в эмиграции, стали непримиримыми врагами.
В третий «Цех» вошли не только акмеисты «первого призыва», но и самые разные авторы, в том числе те, кто предпочитал одиночество. Среди них были Константин Вагинов, который в своей жизни примыкал к разным группам, включая ОБЭРИУ, и Сергей Нельдихен — автор «поэморомана» «Илья Радалёт» и других стихотворений, сочетающих приёмы поэзии и прозы. Нельдихен, писавший о «женщинах — двухсполовинойаршинных куклах», считался примитивистом и даже получил от Гумилева несправедливый титул «певца глупости». Все это уже мало имело отношения к акмеизму.
Однако и второй, и третий «Цехи» просуществовали еще меньше, чем первый. Окончательный распад «Цеха поэтов» совпал с трагической гибелью его руководителя Гумилева, расстрелянного в августе 1921 года по обвинению в участии в белом заговоре. За несколько недель до этого скончался Александр Блок.
В третий «Цех» вошли не только акмеисты «первого призыва», но и самые разные авторы, в том числе те, кто предпочитал одиночество. Среди них были Константин Вагинов, который в своей жизни примыкал к разным группам, включая ОБЭРИУ, и Сергей Нельдихен — автор «поэморомана» «Илья Радалёт» и других стихотворений, сочетающих приёмы поэзии и прозы. Нельдихен, писавший о «женщинах — двухсполовинойаршинных куклах», считался примитивистом и даже получил от Гумилева несправедливый титул «певца глупости». Все это уже мало имело отношения к акмеизму.
Однако и второй, и третий «Цехи» просуществовали еще меньше, чем первый. Окончательный распад «Цеха поэтов» совпал с трагической гибелью его руководителя Гумилева, расстрелянного в августе 1921 года по обвинению в участии в белом заговоре. За несколько недель до этого скончался Александр Блок.
Современники сразу восприняли эти смерти как знаковые события. Похороны Блока все описывали одинаково — это были похороны не просто писателя, а целой эпохи. «У всех было ощущение, что вместе с его смертью уходит в прошлое и этот город и целый мир. Молодые люди, окружившие гроб, понимали, что для них наступает новая эпоха. Как сам Блок и его современники были детьми «страшных лет России», так мы стали детьми Александра Блока. Через несколько месяцев уже ничто не напоминало об этой поре русской жизни. Одни уехали, других выслали, третьи были уничтожены или скрывались. Приближалась новая эра», — вспоминала Нина Берберова, младшая современница поэта.
В 1922 году это чувство завершения эпохи только усилилось, когда за рубеж были отправлены видные русские мыслители на так называемых «философских пароходах». Среди них Николай Бердяев, Семен Франк, Лев Карсавин, Николай Лосский, Питирим Сорокин, Евгений Замятин. Эмигрантами стали символисты Мережковский и Гиппиус, за границу уехали Горький, Ходасевич и Берберова, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, а также множество других поэтов — последователей символистов и акмеистов, которым не довелось творить и печататься на родной земле.
В 1922 году это чувство завершения эпохи только усилилось, когда за рубеж были отправлены видные русские мыслители на так называемых «философских пароходах». Среди них Николай Бердяев, Семен Франк, Лев Карсавин, Николай Лосский, Питирим Сорокин, Евгений Замятин. Эмигрантами стали символисты Мережковский и Гиппиус, за границу уехали Горький, Ходасевич и Берберова, Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, а также множество других поэтов — последователей символистов и акмеистов, которым не довелось творить и печататься на родной земле.
У всех одинаково бьется,
Но разно у всех живет,
Сердце, сердце, придется
Вести тебе с небом счет.
Что значит: "сердечные муки"?
Что значит: "любви восторг"?
Звуки, звуки, звуки
Из воздуха воздух исторг.
Какой же гений налепит
На слово точный ярлык?
Только слух наш в слове "трепет"
Какой-то трепет ловить привык.
Любовь сама вырастает,
Как дитя, как милый цветок,
И часто забывает
Про маленький, мутный исток.
Не следил ее перемены -
И вдруг... о, боже мой,
Совсем другие стены,
Когда я пришел домой!
Где бег коня без уздечки?
Капризных бровей залом?
Как от милой, детской печки,
Веет родным теплом.
Широки и спокойны струи,
Как судоходный Дунай!
Про те, про те поцелуи
Лучше не вспоминай.
Я солнце предпочитаю
Зайчику мерклых зеркал,
Как Саул, я нашел и знаю
Царство, что не искал!
Спокойно ль? Ну да, спокойно.
Тепло ли? Ну да, тепло.
Мудрое сердце достойно,
Верное сердце светло.
Зачем же я весь холодею,
Когда Вас увижу вдруг,
И то, что выразить смею,-
Лишь рожденный воздухом звук?
— Михаил Кузмин
Но разно у всех живет,
Сердце, сердце, придется
Вести тебе с небом счет.
Что значит: "сердечные муки"?
Что значит: "любви восторг"?
Звуки, звуки, звуки
Из воздуха воздух исторг.
Какой же гений налепит
На слово точный ярлык?
Только слух наш в слове "трепет"
Какой-то трепет ловить привык.
Любовь сама вырастает,
Как дитя, как милый цветок,
И часто забывает
Про маленький, мутный исток.
Не следил ее перемены -
И вдруг... о, боже мой,
Совсем другие стены,
Когда я пришел домой!
Где бег коня без уздечки?
Капризных бровей залом?
Как от милой, детской печки,
Веет родным теплом.
Широки и спокойны струи,
Как судоходный Дунай!
Про те, про те поцелуи
Лучше не вспоминай.
Я солнце предпочитаю
Зайчику мерклых зеркал,
Как Саул, я нашел и знаю
Царство, что не искал!
Спокойно ль? Ну да, спокойно.
Тепло ли? Ну да, тепло.
Мудрое сердце достойно,
Верное сердце светло.
Зачем же я весь холодею,
Когда Вас увижу вдруг,
И то, что выразить смею,-
Лишь рожденный воздухом звук?
— Михаил Кузмин
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Предпосылки возникновения акмеизма:
- Спад поэтического подъема 1890-х гг.
- Доживающий своей «век» символизм
- Желание видеть явный образ, а не символ
Характерные черты акмеизма
- Освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, возвращение ей ясности.
- Отказ от мистической туманности, принятие земного мира в его многообразии, зримой конкретности, звучности, красочности.
- Стремление придать слову определенное, точное значение.
- Предметность и четкость образов, отточенность деталей.
- Четкость композиции.
- Обращение к человеку, к «подлинности» его чувств.
- Поэтизация мира первозданных эмоций, первобытно-биологического начала.
- Перекличка с минувшими литературными эпохами, широчайшие эстетические ассоциации.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
Лекманов, О. А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск.: Водолей, 2000.
Кихней, Л. Г. Акмеизм: миропонимание и поэтика. М.: МАКС Пресс, 2001 (2-е изд.: М.: Планета, 2005).
Пахарева, Т. А. Опыт Акмеизма (Акмеистическая составляющая современной русской поэзии). Киев.: Парламентское издательство, 2004.
Кихней, Л. Г. Акмеизм: миропонимание и поэтика. М.: МАКС Пресс, 2001 (2-е изд.: М.: Планета, 2005).
Пахарева, Т. А. Опыт Акмеизма (Акмеистическая составляющая современной русской поэзии). Киев.: Парламентское издательство, 2004.
ЧТО ПОЧИТАТЬ?
СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ-АКМЕИСТОВ
Н. Гумилев: «Сонет», «Сады души», «Вечер», «Памяти Анненского», «Словно ветер страны счастливой...», «Солнце духа», «Наступление», «Память», «Слово», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели».
А. Ахматова: «Любовь покоряет обманно...», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Сероглазый король», «Он любил», «Смятение», «Настоящую нежность не спутаешь...», «Сколько просьб у любимой всегда...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Ты письмо моё, милый, не комкай...», «Я улыбаться перестала...», «Как площади эти обширны...», «Двадцать первое. Ночь. Понедельник...».
О. Мандельштам: «Нежнее нежного», «На бледно-голубой эмали», «Невыразимая печаль», «Я ненавижу свет», «В пол-оборота, о печаль...», «О свободе небывалой», «Бессонница. Гомер. Тугие небеса...».
С. Городецкий: «У Гроба Воскресшего Господа», «Первый снег», «Колыбельная», «Береза», «Весна», «Россия», «Снег», «Нищая», «Кофе».
М. Кузмин: «У всех одинаково бьется», «В саду», «О, быть покинутым, какое счастье», «Утешение», «На вечере», «Не знаю, как это случилось», «В театре», «Их было четверо в этот месяц».
Г. Иванов: «Хорошо, что нет Царя», «То, что было, и то, чего не было», «Россия счастие», «Я за войну, за интервенцию», «Не спится мне», «Все чаще эти объявленья».
Г. Адамович: «Один сказал: «Нам этой жизни мало», «Болезнь», «Где ты теперь», «Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды», «Рассвет и дождь», «Окно, рассвет», «Ничего не забываю».
В. Нарбут: «Зачем ты говоришь раной», «Россия», «Домбровицы», «России синяя роса», «Семнадцатый», «Чека», «В огне», «Кобзарь».
А. Ахматова: «Любовь покоряет обманно...», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Сероглазый король», «Он любил», «Смятение», «Настоящую нежность не спутаешь...», «Сколько просьб у любимой всегда...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Ты письмо моё, милый, не комкай...», «Я улыбаться перестала...», «Как площади эти обширны...», «Двадцать первое. Ночь. Понедельник...».
О. Мандельштам: «Нежнее нежного», «На бледно-голубой эмали», «Невыразимая печаль», «Я ненавижу свет», «В пол-оборота, о печаль...», «О свободе небывалой», «Бессонница. Гомер. Тугие небеса...».
С. Городецкий: «У Гроба Воскресшего Господа», «Первый снег», «Колыбельная», «Береза», «Весна», «Россия», «Снег», «Нищая», «Кофе».
М. Кузмин: «У всех одинаково бьется», «В саду», «О, быть покинутым, какое счастье», «Утешение», «На вечере», «Не знаю, как это случилось», «В театре», «Их было четверо в этот месяц».
Г. Иванов: «Хорошо, что нет Царя», «То, что было, и то, чего не было», «Россия счастие», «Я за войну, за интервенцию», «Не спится мне», «Все чаще эти объявленья».
Г. Адамович: «Один сказал: «Нам этой жизни мало», «Болезнь», «Где ты теперь», «Ни срезанных цветов, ни дыма панихиды», «Рассвет и дождь», «Окно, рассвет», «Ничего не забываю».
В. Нарбут: «Зачем ты говоришь раной», «Россия», «Домбровицы», «России синяя роса», «Семнадцатый», «Чека», «В огне», «Кобзарь».
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
ПРОЙДИТЕ ТЕСТ
Мы верим, что после прочтения статьи и предложенных рекомендаций у Вас получится пройти наш легкий и короткий тест. Давайте же!
Тест: 5 вопросов
Преакмеизм и акмеизм
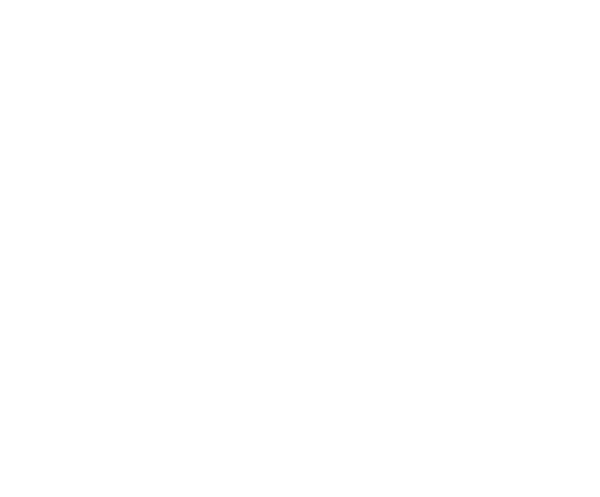
Проверьте свои знания и выясните, насколько хорошо вы знаете историю поэтического течения акмеизм. Можете ли вы ответить на эти вопросы?
| Пройти тест |
Знаете, что это за параход?
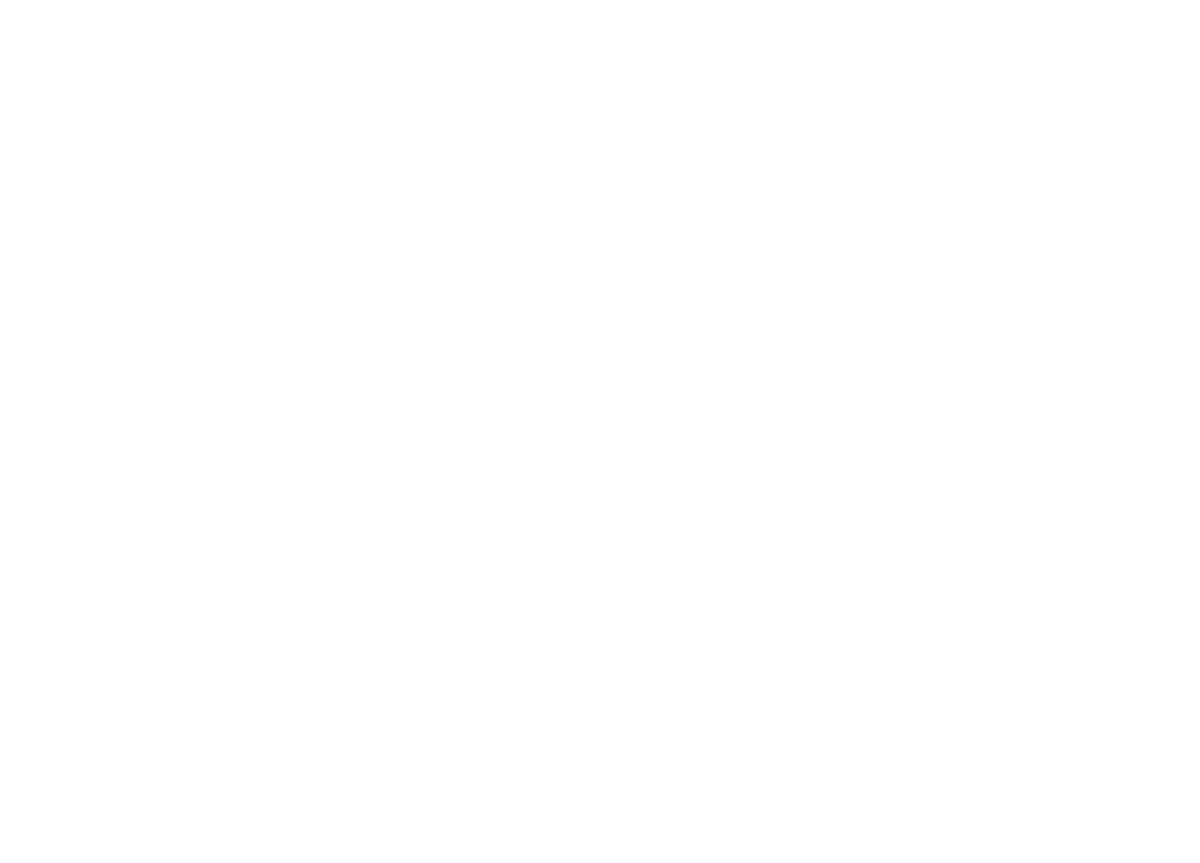
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Кто изображен на этой фотографии?
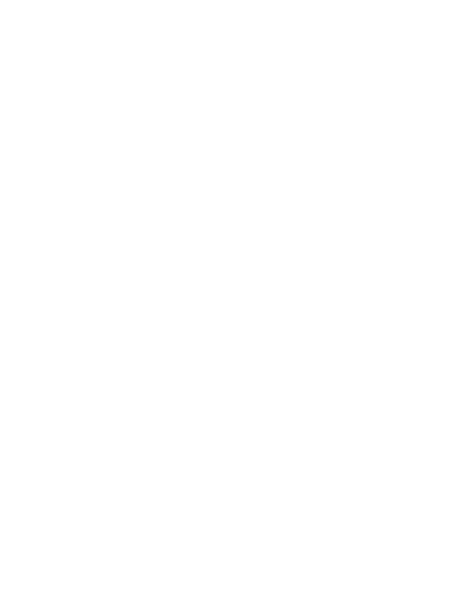
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Выберите поэтов, принадлежащих к группе акмеистов
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Верно! Вы точно не подсматривали?
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
А теперь сложнее. Какая дата является началом существования «Цеха поэтов»?
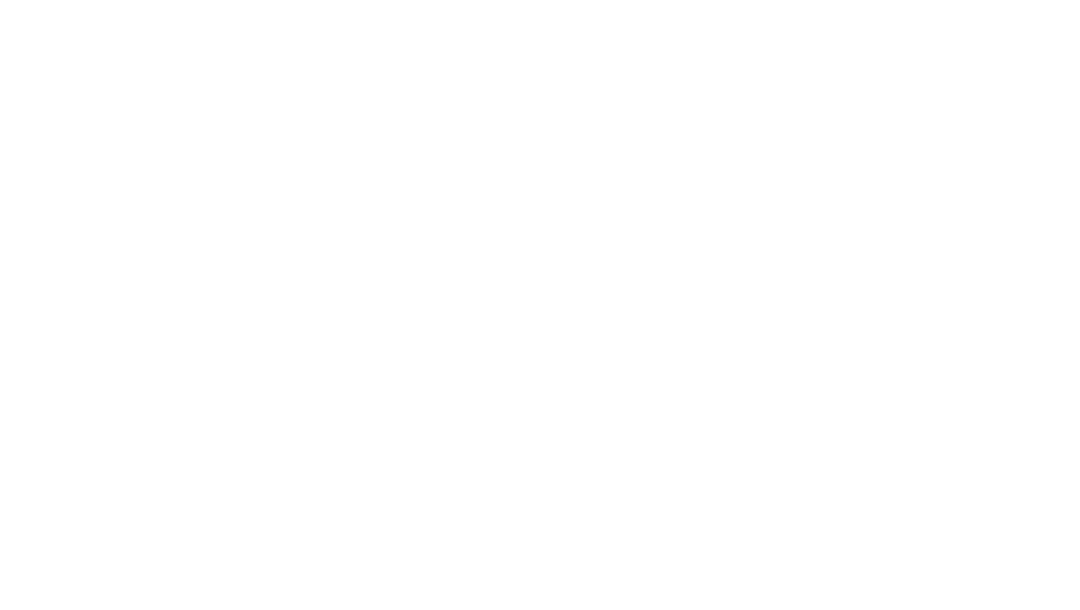
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
И последний вопрос. Какие журналы связан с появлением течения акмеизма?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
Верно! Вы точно не подсматривали?
Верно! Вы точно не подсматривали?
Нет! Вы ошиблись. Какая жалость.
| Далее |
| Проверить |
| Узнать результат |
Ой...
Возможно, стоит прочитать лекцию еще раз.
| Пройти еще раз |
Ничего страшного
По крайней мере, что-то вы точно знаете.
| Пройти еще раз |
Неплохо
Еще немного усилий, и все получится!
| Пройти еще раз |
Хорошо!
Ваши результаты не могут не радовать!
| Пройти еще раз |
Отлично!
Ответили на все вопросы идеально? Мы в вас не сомневались!
| Пройти еще раз |
»
СЛЕДУЮЩАЯ ЛЕКЦИЯ